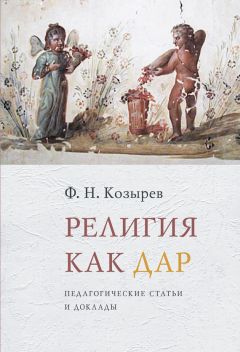Ознакомительная версия.
Известно, что главный вопрос русской философии – это вопрос об отношении России к Европе. Основная черта разделения пролегла здесь не между эмпириками и рационалистами, а между западниками и славянофилами. Это значит, что призыв дельфийского оракула «познай себя!» был воспринят русской мыслью несколько иначе, чем европейской, и пока лучшие умы Европы занимались поиском предельных оснований знания и бытия, русские умы занимались в общем-то тем же самым, только с одним серьезным отличием. В качестве гносеологического и экзистенциального субъекта в этом случае выступал не индивидуум, а Россия. Не «существую ли я как отдельная от познаваемой реальности и не сводимая к ней сущность?», а «существует ли Россия как отдельная и несводимая к европейской цивилизации сущность?» – вот тот «проклятый» вопрос, мимо которого не сумел пройти ни один сколько-нибудь значительный русский мыслитель и художник. Проблема заключается в том, что этот вопрос занимал не какие-то, а именно лучшие умы России. В этом отношении даже традиционное противопоставление западников славянофилам не совсем корректно. Это несравнимые величины. В России просто не было ни одного крупного и оригинального философа, который в какой-то мере и на какое-то время не был бы славянофилом. Так уж случилось. Этим русская культура действительно отличается от западноевропейской. Я слышал, что в Испании также существует традиция противопоставлять себя Европе, но, думаю, даже там размышления о своей национальной самобытности не обретали такой религиозный пафос, и историософская тема не занимала такого удельного веса в философских спекуляциях.
Александр Шмеман в своих дневниках пишет, что в русской культуре поистине всемирно было только творчество Пушкина, ну может быть, еще Тургенева. И «всемирен» Пушкин именно потому, пишет он далее, что все его творчество совершилось до «историософского» соблазна и падения русского сознания[74]. Это очень точный образ, потому что грехопадение, как мы помним, прямо связано с запретным знанием и с обретенной способностью видеть свою наготу. В России уже во времена Пушкина появился человек – Петр Яковлевич Чаадаев, – который увидел во всем ужасе наготу русской жизни и написал свои «Философические письма», в которых назвал Россию пробелом в нравственном миропорядке, страной без прошлого и будущего. С этого, собственно, и начинается история русской философии.
Есть еще хорошая формулировка Сартра: «…Бытие самосознания таково, что в своем бытии оно стоит под вопросом. Оно является постоянной отсылкой к себе, которое оно имеет в бытии». Оно есть бытие в форме «быть тем, чем оно не является, и не быть тем, чем оно является»[75]. В этих словах, сказанных об индивидуальном сознании, мы находим точный, можно сказать, клинический диагноз русской философствующей мысли. Это не аутизм и не интравертность, поскольку в отношении России верно и то, что Сартр дальше пишет об индивидуальном самосознании: ему необходимо нужен другой, чтобы целостно постичь структуры своего бытия. В качестве такого другого для России всегда выступала Европа.
Таким образом, перемена названия не только открыла мне более удачный ракурс для раскрытия проблемы, но и дала возможность беспрепятственно предаться любимому национальному пороку и немного порассуждать о загадочной русской душе, прежде чем перейти к собственно педагогическим вопросам. В первой части своей лекции я попытаюсь раскрыть понятие русской духовности, что наполовину уже сделано. Во второй я поделюсь своими соображениями о приоритетных направлениях инновации и модернизации школьного религиозного образования в современном мире. В третьей я попытаюсь соединить обе части и представить тот специфический вклад, который может внести в развитие религиозного образования обращение к русскому религиозному и педагогическому наследию.
* * *
Русская идея часто ассоциируется с формулой «Москва – Третий Рим», что не совсем верно, хотя, конечно, история перенесения в Москву Византийской государственной символики, разработка старцем Филофеем учения о Третьем Риме, помазание царя и основание Московского патриархата – части одной истории, входящей в остов русского национального самосознания. Неверна однозначная интерпретация этой формулы, усматривающая в ней непременно замысел территориальной экспансии. Конечно, было и это, и тот самый поэт, который произнес одну из самых знаменитых фраз о России: «Умом Россию не понять…», – Ф. И. Тютчев – в разгар Крымской войны пишет стих «Русская география», в котором есть такие строки:
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная.
Вот царство русское. и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.
Но в русской духовности завоевательный мотив был смягчен и сбалансирован другим, я бы сказал, более русским мотивом неотмирности Церкви и Царства Христова. Москва как средоточие Святой Руси, истинного христианского царства, становится при таком прочтении формулы не исторической, а эсхатологической реальностью. Ее святость как, в общем-то, единственное основание претензии на духовное верховенство[76], есть не наличное состояние, но, скажем так, энтелехия русской цивилизации. Когда Гоголь в своей совершенно славянофильской «Переписке с друзьями», из-за которой он поссорился с Белинским, развивает русскую идею, он ведь не подкрепляет тезис о Святой Руси никакими ссылками на благочестие русских. Напротив, он спрашивает: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? – И отвечает. – Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы всех прочих” – вот что мы должны всегда говорить о себе». Но вот есть в религиозной жизни русских одно свойство – особое отношение к Пасхе и какое-то опытное знание о том, как должна праздноваться Пасха. И размышляя над этим свойством, Гоголь заключает свое рассуждение о России тем, что «праздник Воскресенья Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других». И добавляет: «Твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются».
Это перенесение русской идеи в эсхатологическую перспективу, начавшееся уже у Гоголя и Чаадаева, усиливается по мере возрастающих неудач в реальном реформировании государства российского и к началу XX века идея Третьего Рима почти полностью трансформируется в идею радикального преображения мира. Более материалистическая и оптимистическая версия этой идеи находит воплощение в целой серии так называемых проектов общего дела, большей частью совершенно утопических, среди которых построению коммунизма повезло больше других. А трансценденталистская версия воплощается в образе града Китежа, ушедшего под воду города святых, и образ этот становится очень значимым в русской культуре. М. Волошин, которого прот. Александр Мень назвал как-то единственным мудрым человеком из поэтов Серебряного века[77], озаглавил одно из своих главных стихотворений о России «Китеж». Там есть такие строчки: «Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров – народный не уймут костер: они уйдут, спасаясь от пожаров, на дно серебряных озер». А заканчивается стих словами: «На дне души гудит подводный Китеж, наш неосуществимый сон». Сергиев, Оптина и Саров – это три главных центра православия в России, и от пожара (революции, разумеется) они уходят в инобытие подводного мира. Этот мотив ухода под воду будет воспроизведен и в одном из самых загадочных произведений русской литературы о революции – «Чевенгуре» Андрея Платонова.
Можно констатировать, что к началу ХХ века русская идея приобретает обновленное эсхатологическое и мессианское содержание, преодолевая те конфессиональные и национально-этнические рамки, в которых она отливалась в XV–XVI вв. И именно в этой способности выходить за пределы своей этнической и конфессиональной идентичности я вижу основную характеристику русскости как духовного и культурно-исторического феномена. Вопрос о том, будет ли Москва центром Всемирной империи, фактически теряет смысл в силу тех радикальных преобразований, которым должен подвергнуться этот мир в ходе мировой революции или духовно-нравственного преображения. Как теряет смысл и вопрос о том, будет ли этот преображенный мир православным. «И увидел я новое небо и новую землю…» (Откр 21:1) – вот основное мирочувствие русской мысли[78]. В. Соловьев, общепризнанный основоположник русской религиозной философии, продвигал идею политического единства русского царя и римского папы[79]. Но центральным в его утопии был совсем не этот союз, а идея сизигии – достижения мировой гармонии и всеединства посредством стяжания тварью образа вечной женственности, упразднения половых различий и восстановления андрогинизма[80]. Для Николая Федорова с его проектом физического воскрешения отцов[81] принадлежность к России и православию тоже была только отправной точкой пути, ведущего к радикальному преобразованию космоса. Если одним из результатов воплощения проекта должно было стать прекращение времени, то что говорить о Москве или Московском Патриархате? У коммунистов, как известно, упразднение государственности и религии вообще было записано в программе.
Ознакомительная версия.