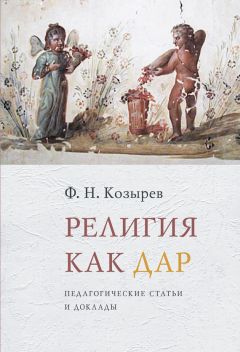Ознакомительная версия.
Можно констатировать, что к началу ХХ века русская идея приобретает обновленное эсхатологическое и мессианское содержание, преодолевая те конфессиональные и национально-этнические рамки, в которых она отливалась в XV–XVI вв. И именно в этой способности выходить за пределы своей этнической и конфессиональной идентичности я вижу основную характеристику русскости как духовного и культурно-исторического феномена. Вопрос о том, будет ли Москва центром Всемирной империи, фактически теряет смысл в силу тех радикальных преобразований, которым должен подвергнуться этот мир в ходе мировой революции или духовно-нравственного преображения. Как теряет смысл и вопрос о том, будет ли этот преображенный мир православным. «И увидел я новое небо и новую землю…» (Откр 21:1) – вот основное мирочувствие русской мысли[78]. В. Соловьев, общепризнанный основоположник русской религиозной философии, продвигал идею политического единства русского царя и римского папы[79]. Но центральным в его утопии был совсем не этот союз, а идея сизигии – достижения мировой гармонии и всеединства посредством стяжания тварью образа вечной женственности, упразднения половых различий и восстановления андрогинизма[80]. Для Николая Федорова с его проектом физического воскрешения отцов[81] принадлежность к России и православию тоже была только отправной точкой пути, ведущего к радикальному преобразованию космоса. Если одним из результатов воплощения проекта должно было стать прекращение времени, то что говорить о Москве или Московском Патриархате? У коммунистов, как известно, упразднение государственности и религии вообще было записано в программе.
Я думаю, что этой чертой русской духовности, очень сильно выделяющей русских в ряду православных народов, прямо обусловлены легкость и успех построения такого крупного и многонационального государства, каким была Российская империя, а затем Советский Союз. С ней прямо связаны и некоторые другие важные особенности русской истории. В частности, я думаю, именно наднациональным, вселенским и экуменическим духом русского православного самосознания объясняется тот интересный факт, что в России реформационное движение приобрело совсем другие черты, нежели на Западе. Говоря о русской реформации, я имею в виду не только Толстого, которого по праву можно назвать русским Лютером, но всю русскую интеллигенцию, сплотившуюся в 30-е годы XIX в. в особый духовный орден и практически сразу вошедшую в жесткую оппозицию православной иерархии[82]. В России в это время были созданы все предпосылки для раскола. При этом поразительно, что среди всех совершенно безумных социальных проектов русской интеллигенции вопрос об устроении собственной церкви, институционально закреплявшей разрыв с Московским Патриархатом, практически не поднимался. Очень вяло что-то по этому поводу говорил Д. Мережковский[83], и то – недолго.
Вместе с тем идея объединения церквей и даже религий была невероятно популярна. Когда Вяч. Иванов, будучи в эмиграции, решил перейти в католицизм, он просил у папы, по примеру В. Соловьева[84], применить особый чин воцерковления, который позволил бы ему стать членом католической церкви, не порывая с православием. После конвертации Иванов продолжал считать себя православным и говорил с гордостью о том, что он первый член воссоединившейся Христовой церкви. Ему, кстати, принадлежит сравнение католической и православной церквей с двумя легкими Европы, процитированное Иоанном Павлом II. А в Англии русские эмигранты вели вполне серьезную подготовку к полному институциональному объединению англиканской и русской православной церквей. В евразийском движении, сформировавшемся в это время, даже само православие стало рассматриваться как религия «органично интегрирующая значимую совокупность догматов евразийских региональных вероисповеданий»[85], т. е. оптимально обеспечивающая духовное единство христиан, мусульман и религий Востока.
Итак, интернационализм и интерконфессионализм, обеспечивший высочайший ассимилирующий потенциал русской культуры, с одной стороны, абсолютизм государственной власти – с другой, и утопизм в области социального строительства, замешанный на эсхатологических и мессианских религиозных и квазирелигиозных идеях, – таковы, на наш взгляд, наиболее важные плоды развития и трансформации русской идеи на протяжении пяти веков русской истории. Можно пытаться объяснить причины именно такого направления ее эволюции, и в этом случае среди определяющих факторов надо будет назвать, конечно, и высокую степень централизации власти, объясняемую в свою очередь обширностью территории, и цезарепапистскую концепцию церковно-государственных отношений, доставшуюся русскому богословию в наследство от Византии. Автор книги «История либерализма в России» Виктор Леонтович прямо указывает на два фактора, а именно на отсутствие в России двух основных источников западноевропейского либерализма: феодализма и независимости духовных властей. В России «за представителями церковной власти никогда не признавалось положение суверенных властителей», и в этом, по его мнению, главная причина того, что здесь отсутствовали самые корни западноевропейского либерализма[86]. Однако причинно-следственные связи здесь неоднозначны, и трудно сказать, что было раньше: отсутствие независимости церковных властей или нежелание этой независимости. Я нахожу вполне продуктивной попытку Р. Нибура выделить определенные архетипы взаимоотношений церкви и общества[87] и считаю, что внутренняя установка русской духовности на модель «Христос внутри культуры» может рассматриваться как один из первичных факторов, определивших историю христианства в России.
За этой установкой лежит та общая интенция к синтезу, которую мы назвали выше основной чертой русской духовности и которую Бердяев в статье «Русская идея» определил как «тоталитарность русской мысли». Этим свойством он объяснял и ее историософскую и социальную направленность: «Русская мысль по своей интенсии была слишком тоталитарной, она не могла оставаться отвлеченно-философской, она хотела быть в то же время религиозной и социальной, в ней был силен моральный пафос»[88]. Именно в этой тоталитарности, в требовании единства всех сторон жизни лежат, на наш взгляд, истоки и русского утопизма, и того «рокового разрыва» между духовным и светским в русской культуре, который, по словам замечательного православного педагога С. Рачинского, составил «суть нашей внутренней жизни нового времени»[89]. Модель устроения социальной жизни, требующая такой степени единства всех ее сторон, неизбежно привела к тому, что идеал и реальность разошлись между собой в России гораздо сильнее, чем на Западе в целом, и породила фатальные разрывы.
Я бы предпочел использовать более мягкий термин и говорить не о тоталитарности, а о холизме русской мысли, который отражается уже в самом языке, в богатейшей по европейским меркам полисемии таких понятий как «мир», «свет», «правда». Собственно, это не противоречит Бердяеву, который соединяет два понятия в той же работе: «Оригинальной особенностью русской религиозной и философской мысли нужно признать ее тоталитарный характер, ее искание целостности»[90]. Вот это искание целостности, исходящее из интуиции целостности, интуиции всеединства бытия (термин, ставший ключевым для русской религиозной философии) и следует считать коренной интенцией русской духовности, определившей своеобразие русской идеи. Мы находим изводы этой религиозной интенции в самых разных областях русской культуры: в философии, науке, художественном творчестве, социальной и политической деятельности. Назовем только самые яркие из них.
С холистическим настроем, безусловно, связан тот анти-рационалистический пафос, который буквально пронизывает всю русскую философию, определяет предпочтения в выборе философских направлений и тем. Как пишет тот же Бердяев, критика рационализма есть первая задача русской философии. Очень рано, уже у Гоголя, В. Одоевского и первых славянофилов рационализм опознается как «первородный грех западной мысли», как «второе грехопадение человечества»[91]. В статье «О характере просвещения Европы» И. Киреевский пишет: «Западный человек раздробляет свою жизнь на отдельные стремления: в одном углу его сердца живет религиозное чувство… в другом – отдельно – силы разума… в третьем – стремления к чувственным утехам» и т. д. «.Разум обращается в умную хитрость, сердечное чувство – в слепую страсть, красота – в мечту, истина – в мнение…». Раздвоение и рассудочность – последнее выражение западной культуры[92]. Последующие поколения русских философов всячески укрепляли и развивали это положение славянофилов, прямо связывая русскую самобытность с принципиальным и исконным отрицанием рационализма и всякого вообще дуализма. Вот как это выражено, к примеру, у В. Зеньковского: «В отличие от позиции, занятой обеими ветвями западного христианства, мы. решительно отвергаем то раздвижение веры и знания, которое и на Западе явилось довольно поздно, как свидетельство бессилия христианского сознания, а на Востоке никогда не имело место»[93]. Естественно, что самыми нелюбимыми философами в России были Декарт и Кант, а самыми любимыми Гегель и Шеллинг. Неприязнью к кантианству были вдохновлены многие замечательные научные достижения русских, к примеру, первая неэвклидова геометрия Лобачевского, появившаяся за 25 лет до знаменитого доклада Римана о геометрической аксиоматике. Что касается Гегеля, то его успех в России был поистине ошеломляющим. Он умудрился стать кумиром и славянофилов, и западников, и коммунистов, и религиозных философов и богословов. Ученик Хомякова Юрий Самарин, вполне православный мыслитель, прямо писал, что «вне философии Гегеля православная Церковь существовать не может»[94]. А другой русский поэт A. M. Жемчужников написал примерно в это же время шутливое четверостишье, ставшее очень популярным:
Ознакомительная версия.