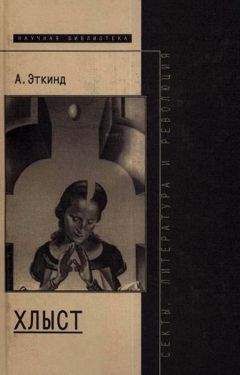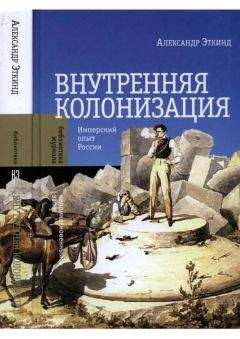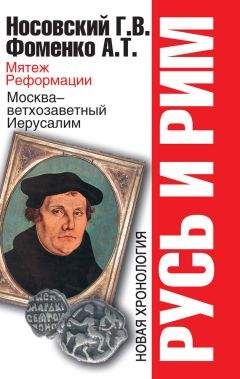половая разнузданность в некоторых кругах дошла до крайних пределов. Прежде духовниц меняли, соблюдая трехдневное воздержание от пищи. Это было оставлено. Были круги (не желаю назвать их), где были духовницы «на час», под влиянием минутной страсти. […] Даже попадались отдельные лица, жившие с дочерьми. «Я посадил древо, я первый и пользуюсь плодами», — оправдывали они животную похоть свою[254].
Как этнограф-любитель, Данилов был чувствителен к экзотике материала; в бытность свою в сибирской ссылке он выучил якутский язык и женился на якутке. Но его очевидная симпатия к хлыстам вряд ли позволила бы ему преувеличивать крайности их сексуальных обычаев. Его симпатии всякий раз на стороне женщин, страдающих от «животной» страсти мужских членов общины.
Я часто присутствовал на этих радениях. Часто томящиеся души, особенно женщины, бросались мне в объятия, желая найти утешение в черной скорби своей. Эта черная скорбь была следствием сознания своего падения, когда она, приходя за словом духовного назидания […] к более влиятельному брату по духу, становилась жертвой его животно полового возбуждения.
По словам Данилова, примирения между женами и подругами сектантских лидеров происходят прямо на радениях. Такие «факты не единичные, не исключения», — утверждал Данилов.
Духовница падает к ногам жены, как бы сознавая свое преступление, просит прощение и в теплых братских объятиях получают они взаимное утешение […] А в это время виновник ихних мучений безучастно смотрит на эту сцену примирения, обнаруживая этим безучастием всю грубость животности своей[255].
Данилов написал вопросы и ответы, освещающие эротическую жизнь хлыстов 1900-х годов с сочувственных позиций и в деталях, неизвестных по другим источникам.
1. Чем отличается женщина-хлыстовка от женщины мира? — […] Женщине мира нужно тело, и она желает обладать телом, без отношения к духу. Хлыстовка, когда любит, думает о духе и забывает о теле и падает телом, ради духа. Поэтому падение женщины доходит до проституции, а падение хлыстовки никогда не доходит до этого. […]
5. Борятся ли хлысты против этого чувства природы, если это чувство разрушает сложившиеся взгляды морали и обязанности мужа и жены? — Да, борятся; и на этой почве разыгрывается их особенная повышенная экзальтация, доводящая субъекта до невменяемого состояния, которая называется «хождение в духе».
6. Скрывают ли они свою любовь, если она идет против существующего закона? — Да, по отношению к закону и обществу людей скрывают, если это удается. Но не скрывают этого между собою. Да и невозможно скрыть, если бы и хотели; в этом их сила. Они напряженны и экзальтированны только тогда, когда любят.
7. Как относятся жена и муж к изменяющим брачному ложу? — В силу ревности, присущей животному миру человека, возникает скрытая глубокая ненависть, которая часто побеждается смирением, как перед законом необходимости.
8. Когда приходит примирение, вне собрания или на собрании? — Чаще всего во время собрания, когда душа, приподнятая и разогретая пением стихов, желает любить […] Здесь бывают молчаливые трогательные сцены между любимой и обиженной. Любимая кланяется обиженной и плачет, обнимая ее и целуя и прося прощения […] В эти минуты примирения небеса открывают свои объятия над людьми, как над детьми Божьими. […].
12. Не восторжествует ли тогда в человеке его животное я, не сдерживаемое законом? — Животное опасней тогда, когда вне воли, и злей, когда привязано. Я думаю, тогда люди были бы нежней и лучше. И мир походил бы на влюбленного юношу. Только любовь прекрасна, ей одной принадлежит Царство свободы. Где нет любви, там немыслима свобода[256].
И Данилов, романтик старой школы, напрямую сравнивал хлыстовство с современной ему литературой, отдавая безусловное предпочтение первому:
Вопрос отношения полов — роковой вопрос религиозной мысли. Одни хотят вычеркнуть его из жизни. Другие устраивают различные опыты, решения. […] В литературе это направление известно под названиями модернизма или символизма, как вырождение чувства в слова; в народной жизни это — «хлысты», то есть то крайнее проявление, где духовность гибнет в переживании налетевшего ощущения[257].
Московский хлыст 18 века говорил, а писарь записывал: «вертясь на сборищах, чувствовал […] сошествие на себя Духа святого, потому что у него в то же время трепеталось сердце аки голубь»[258]. Эти слова, сказанные на дыбе, — продукт встречи двух телесных техник, в равной мере экстремальных — физической пытки и ритуального кружения. Следователь, пытавший сектанта, верил в то, что дыба и кнут исторгают правду; сектант, кружившийся на радении, верил в то, что призывал Духа святого; и оба верили, что манипуляции с телом суть способ приобщения к высшим силам. Текст был порожден последовательной работой культуры над телом — сначала на радении, потом на пытке.
Многое из того, что в высокой письменной культуре было религиозной проповедью и литературной метафорой, в культуре народных сект бытовало устно и осуществлялось буквально. Дискурсивное описание «буквальности», однако, представляет высшую трудность; само это слово противоречит собственному значению и оставляет нас внутри письма. Основатель хлыстовства, легендарный Данила Филиппович, выбросил книги в Волгу. Книга — тело письменной культуры — в культуре неграмотных заменялось телом как таковым. Так русский раскол, в основе которого была разная интерпретация сложных богословских и политических символов, стал символизироваться телесным жестом, двуперстием. Создавая риторику раскола, Аввакум пользовался телесными метафорами как одним из главных своих орудий. В «челобитной» царю он рассказывает о своих видениях, в которых тяжкие грехи Алексея Михайловича описываются как гнойные язвы у него на животе, а спина царя виделась «сгнивше паче брюха». Самого себя Аввакум ощущает мистическим телом мира: «и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен […] распространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь»[259].
Русские секты использовали телесные метафоры как символы главных интересов общины. «Церковью у нас почитается людское собрание», — записано в Обряде о духовных христианах, найденном у рязанского сектанта в 1825 году[260]. «Вы есть храм Бога живого», — учил наставник одной костромской общины хлыстов в 1826 году; «Господь нигде так любезно обитать не желает, как в чистой плоти человеческой»[261]. В следующем столетии хлыстовский лидер Кондратий Малеванный учил о том же: человеческое тело — «храм божества, в нем обитающего»[262]. Саратовские скопцы, которых допрашивали в 1834 году, первый пункт своего учения разъясняли так: «видимую церковь считают за ничто, место ее занимает у них каждого тело, в коем живет святая троица нераздельно»[263]. Соответственно, книги и иконы ими не почитались; «у нас есть живые образа и живые мощи», — говорили скопцы[264]. Существовавшие в середине 19 века коммуны ‘общих’, в которых социальный эксперимент был проведен с необычной решительностью, определяли иерархию, руководившую их жизнью, через органы тела: 1-й чин, судья, назывался «правая рука»; 2-й чин, жертвенник, назывался «правое ухо»; 3-й, распорядитель — «правая нога» и так дальше по порядку — правое око, левое око, язык, левая рука, левое ухо, левая нога[265]. Если здесь анатомия употреблялась как код бюрократической иерархии, то пророк-одиночка конца 19 века Василий Сютаев учил анатомическому толкованию Апокалипсиса. Он расшифровывал темные символы Откровения как органы тела вплоть до селезенки: «по его мнению природа человека и вселенной совершенно подобны друг другу»[266].
Проходили десятилетия, но менялись лишь метафоры. «Алексей и Фекла только аппараты от божественного телефона, в которых, когда они не загрязнены, слышно эхо Господне и голос Его, как в фонографе» — так учили в начале 20 века хлысты-постники[267]. Легенды о петербургских сектантах, от Селиванова до Распутина, содержат истории обожествления не только их тел, но и выделений тела. Впрочем, такого рода крайности возникали при столкновении высокой и народной культур, когда светские дамы с умилением подбирали объедки, стриженые волосы, грязные портки, понимая это как предел чаемого ими ‘нисхождения’.
Русские сектанты поклонялись телу особенному, претворенному в коллективе, прошедшему радикальную переделку культурой и благодаря этому воссоединившемуся с Духом. В экстатическом радении отдельные тела участников сливались в одно большое тело. Содержанием ритуала было не поклонение отдельному телу как воплощению индивидуальной личности, но наоборот, слияние тел в сверхличное коллективное тело. В этом, видимо, была социальная функция экстатического ритуала хлыстов, скопцов и других близких сект. К переживанию такого телесного, абсолютно реального соединения сводится смысл всех входящих в радение ритуальных элементов — хорового пения, совместного кружения и, наконец, группового секса. Если последний элемент практиковался нечасто, а первый не является специфическим, то изобретение совместного кружения как социальной практики является особенным достижением хлыстов. В христианском мире хлысты делят этот приоритет только с американскими шейкерами[268] и еще с английскими квакерами (последние, впрочем, скоро отказались от кружений-танцев); вне христианства отчасти схожий ритуал практикуют суфи.