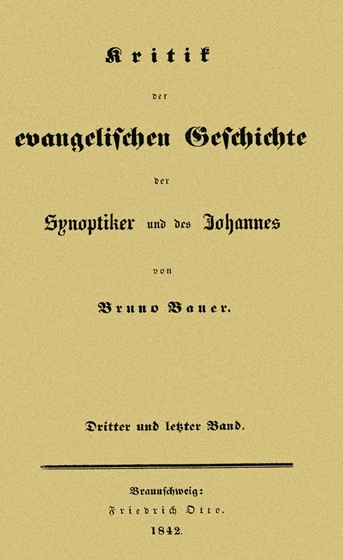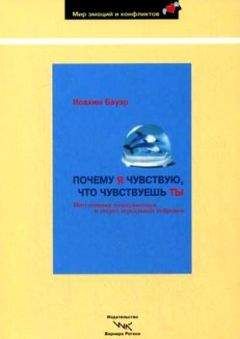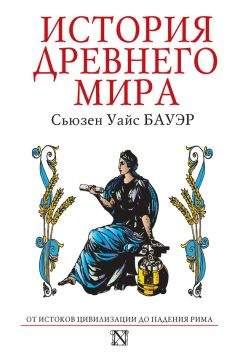даже не подозревает, что страх родителей имел бы именно такой смысл; согласно его тексту — а верный богослов должен уважать его прежде всего — родители ничего не знают о духовном бегстве своего сына, когда тревожно и мучительно ищут Его в течение трех дней, но так тревожатся лишь потому, что считают Его заблудившимся и потерянным. И только когда они находят Его среди учителей в храме, они удивляются, удивляются неожиданности, и когда Иисус только спрашивает об Отце, в доме Которого Он должен быть — и где родители, если бы они уже знали о Его бегстве духа, должны были бы искать Его вместо того, чтобы три дня бродить по городу, — они уже не понимают, о чем Он говорит. Странное противоречие! Мария не знает, как истолковать слова своего сына от истинного отца? Кому нужны «более веские» доказательства того, что мы имеем здесь дело не с реальным индивидуальным событием, что писателя занимает лишь мысль о том, что Иисус в развитии своего самосознания должен был опередить постигающую силу окружающего его старого мира, и что Лука впал в это противоречие только потому, что трансформировал и должен был трансформировать эту общую коллизию в коллизию семейных отношений Иисуса, потому что делает Иисуса-ребенка героем повествования — для тех, кто требует более веских доказательств, ни одно из них не является достаточно сильным.
§ 6. Предыстория Евангелия от Луки.
Вот вам и евангельская предыстория Евангелия от Луки! До сих пор мы обсуждали, как оно появилось на свет. Но остается еще один вопрос, на который необходимо ответить. Мы проследили источники этих повествований до того момента, когда познакомились со смешением и движением первых элементов, породивших их, с почвой, которую они предали своей природе, и с силой, определившей их первый ход. Мы увидели, какой внутренний опыт общины был необходим для возникновения того взгляда, который составляет центральный пункт этой предыстории; кроме того, какие взгляды Ветхого Завета и язычества должны были объединиться, чтобы идея божественного происхождения Иисуса обрела форму единого эмпирического факта; наконец, мы увидели, какая сила религиозного сознания так тесно объединила историю Иисуса и Крестителя, что она стала одной историей.
Вопрос теперь в том, кто объединил источники в единый поток и так художественно его скомпоновал? Кто написал эту предысторию, в том смысле, что придал общим представлениям определенную историческую форму, развил их до отдельных фактов и вернул в художественный контекст? Поскольку мы уже не можем предположить, что эмпирическая реальность произвела это произведение искусства и что гармония, в которую объединены отдельные повествования, вытекает из природы и последовательности самих фактов, то возможны только два автора: традиция сообщества или писатель. Мифологическая точка зрения Штрауса пока не имеет однозначного ответа на этот вопрос, поскольку не ставит его в чистом виде, но безошибочно склоняется к предположению, что повествования формировались в традиции общины, а писатель лишь переварил более точную версию, полученную им в Евангелии. Обида, которую обыденное сознание нашло бы в другом предположении, которую, возможно, втайне чувствовали даже самые решительные критики нового времени и которая не позволяла им приписать эти повествования последней мастерской, художественной деятельности, — эта обида, однако, остается слишком несомненной, если автором этих повествований также является община. В конце концов, это всегда индивид, который их сформировал, или это индивиды, которые сформировали индивидуальные нарративы, и опять же один, который искусно объединил их в целое. Народ, община, как таковые, в своей таинственной субстанциальности и из этого непосредственно, ничего не могут создать, но только субъект, индивидуальное самосознание может привести это к форме, к очертанию, а значит, только к определенности содержания. Однако в этой творческой деятельности самосознание не ведет себя как чисто изолированное «я», не творит и не формирует из своей неопосредованной субъективности, по крайней мере, в том случае, когда его творчество принимается народом или общиной, признается и рассматривается веками как форма их собственного взгляда. Самосознание, не всегда понимая, насколько оно связано с общим кругом жизни, находилось тогда скорее в напряжении со своей субстанцией, оплодотворялось ею и побуждалось к ее деятельности, вернее: Чем глубже произведение, чем больше его успех в общем признании, тем с большей уверенностью можно предположить, что автор работал чисто беспристрастно, не задумываясь над общим, и что влияние его жизненной субстанции на произведение проявилось в той глубокой интенсивности, с которой он работал. Несмотря на все это напряжение между формирующимся самосознанием и его содержанием и духом народа или сообщества, остается важным положение о том, что произведение как таковое, с его формой и конкретным содержанием, еще не было дано в этом субстанциальном мире. Все попытки преодолеть последствия этой — ужасной: не правда ли, правильное выражение, которое у вас на кончике языка? пропозиции и вернуться от индивида к аналогу содержания оказываются безуспешными и пресекаются бесконечным обращением, пока снова не придешь к единому создателю.
Для настоящего времени несомненно следующее: даже если Лука создал отдельные повествования евангельской предыстории, даже если они были созданы другими людьми до него и перешли в поле зрения общины, и даже если Лука исключил их из своего сочинения, в конечном счете, это одно и то же.
Однако дело обстоит совсем иначе, если учесть, что в этой предыстории мы имеем ряд отдельных повествований, которые — в чем и состоит доказательство вышеприведенной критики — находятся в такой тесной связи между собой, что предшествующее является подготовкой последующего, а последующее теряет смысл без предпосылок предыдущего. При упоминании об этом сразу же возникает мысль, что Лука либо объединил отдельные рассказы, найденные им в традиции общины, в единое целое, либо уже нашел это целое в той же традиции и исключил его как таковое из своего произведения.
Первое предположение наталкивается на необходимое следствие всякого рационального взгляда — на таинственное, и в конце концов оно должно было бы предполагать вдохновение паствы, чего даже самый строгий ортодокс не приписывает своим евангелистам. Согласно этому предположению, не было бы меньшего чуда, чем то, что все люди — мы можем говорить только о людях, — составлявшие эти повествования, причем ни один из них ничего не знал о работе другого, сделали это таким образом, что их фрагментарные творения, когда они были наконец собраны вместе, составили самое превосходное целое. Мы сказали: не зная ничего о другом и его творчестве; ведь должны же мы в конце концов допустить абсурд, что все эти люди жили в одном городе или даже в одном районе