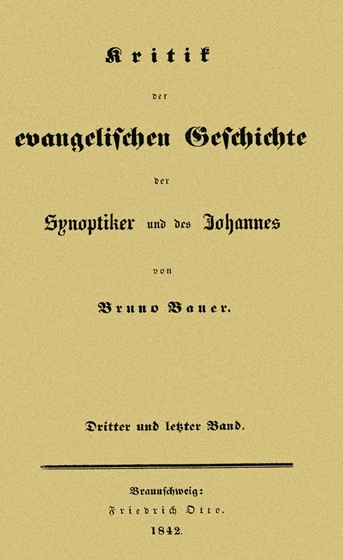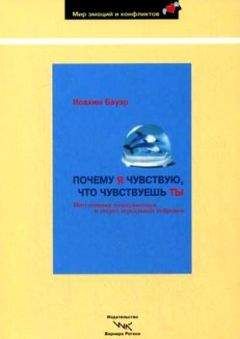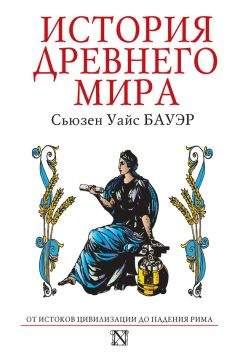и вообще подать сигнал о предательстве, чтобы потом не казалось, что, вопреки своим подозрениям, он был удивлен этим.
Как только ставится вопрос о том, почему Иуда предал Господа, причем ставится в том смысле, что человек не удовлетворяется утверждениями Писания и предполагает другие мотивы, которыми на самом деле объясняется предательство, то он становится очень недоверчивым.
Разве недостаточно того, что Лука говорит, что сатана вошел в Иуду, или недостаточно пояснения, когда Четвертый определяет это примечание более точно, чтобы сказать, что вход сатаны произошел в тот момент, когда Иуда проглотил эту пищу?
Более того, когда Марк сообщает, что первосвященники, обрадованные неожиданным предложением Иуды, пообещали ему деньги, и что теперь он искал случая предать своего господина; когда Лука затем сообщает более подробно, что Иуда принял предложение денег и согласился на него; когда, наконец, Матфей излагает дело таким образом, что Иуда сразу же задал вопрос: «Сколько вы мне заплатите?», идет к священникам и соглашается с их предложением дать ему тридцать сребреников, — не является ли эгоистический мотив предательства порочно ясным? И кто-то еще размышляет о мотивах? О лицемеры!
Мы не хотели вспоминать смешное неверие богословов ни в одном из этих отрывков. Останемся верны своему замыслу и здесь, в отрывке, основанном на специфически религиозном воззрении, вспомним лишь мнение философа, который это самое религиозное воззрение сделал своим, хотя и в несколько модернизированном виде. Религия достигает своего совершенства только тогда, когда она растворяет в себе всякую определенность и находит свою истинную стихию в неопределенной чехарде. Если христианство уже было совершенством религии в том смысле, что оно убило в себе нравственные и жизненные интересы других религий, то оно еще более возрастает в своем совершенстве, когда растворяется даже та малая определенность, которой оно еще обладает.
Поэтому для обсуждения вопроса не будет вреда, если мы забудем о дьяволе и тридцати сребрениках. Для критика, для человека больше нет дьявола, который живет своей химерической жизнью над руинами человечества и правит этими руинами, как ему заблагорассудится, и тем более нет дьявола, который входит в рот человека с краюхой хлеба. И бесстыдный вопрос Иуды: «Что вы мне дадите?», и предложение священников дать тридцать сребреников для нас уже не существуют, потому что Матфей переписал и то, и другое, а первое, у Захарии, еще хуже,. Там в писании пророка пастырь народа требует плату за свою работу, а ему в насмешку дают тридцать сребреников. Марк был еще настолько умен, чтобы понять, что эта сумма, которая в ВЗ должна быть презренной насмешкой, не могла подбодрить Иуду. Он лишь позаимствовал у пророка указание на то, что мессия вообще должен быть продан за деньги, если он действительно хочет показать себя обетованным.
Не беда, что теперь мы растворили весь этот отчет; тем лучше для религиозного сознания, которое чувствует себя как нигде, а не в вакууме. Теперь, когда рычаги денег и дьявола сломаны, Уайт может тем более свободно говорить о том, что мотив предательства был совершенно злым. Но как бы ни раздували эту точку зрения, которой Вайс даже не занимается в это время, т. е. как бы ни представляли себе по-новому напряженное усилие эго, связанное с таким решительным противостоянием тому, что абсолютно хорошо, — все равно это напрасно, потому что мысль о том, что может быть «абсолютно злой характер, абсолютно злой мотив», так же химерична и пуста, как и мысль об абсолютно добром характере и мотиве. Но эта химера специфически религиозная, но только потому, что она химера; в реальности этот бессодержательный и необразованный аналог понимания не имеет ни обоснования, ни жизни, ни существования, а во всех характерах, мотивах и поступках взаимопроникают эгоистические и общие интересы человеческой жизни. Нет абсолютно доброго человека, который был бы никем и ничем, кроме маленького ягненка, так же мало, как и нечто чисто злое, т. е., например, действие, в котором восстало бы эго, как чисто особенное, не имеющее никаких других интересов, — эго против общего как такового — как если бы существовало чистое, абстрактное общее! Только религия знает эти бездонные антагонизмы. Даже самый крайний — романтически раздутый — случай, когда индивид восстает против другого исключительно по той причине, что тот хорош, является лишь притворством; восстание направлено не против добра как такового, а против того, что этот индивид просто хорош, или предполагается хорошим, или претендует на то, чтобы быть хорошим или хорошим вообще. Скорее, тот, кто хочет быть только маленьким ягненком, оскорбляет достоинство человечества, а тот, кто хочет быть хорошим и ничем иным, как этим, насмехается над определенными моральными обязанностями.
На вопрос о том, как получилось, что Иисус принял в число Двенадцати «совершенно порочного» персонажа, а Иуда присоединился к Господу, мы ответим тем, что опустим его, поскольку абсурдность совершенного порочным существом нам не известна, а известная нам по Евангелиям концепция этого круга учеников давно распалась.
Но, может быть, стоит потратить усилия, чтобы увидеть, как Вайс довел до совершенства религиозный ответ на этот вопрос.
«Между добрыми и злыми индивидами, — говорит он, — существует нравственное отношение. Но остаются ли злые как таковые злыми, если они способны к моральным отношениям, пусть даже в форме напряжения? «Может также существовать моральный долг или обязанность хороших людей по отношению к плохим. Иисус не ошибся в характере Иуды с самого начала. Но он не отверг его, потому что в противном случае среди его учеников и последователей могли возникнуть разногласия и потому, что тогда ему пришлось бы отказаться от поддержки Иуды». — Не что иное, как скрупулезное благоразумие со стороны благоверного и не что иное, как нравственные отношения! Но: «Иисус принял Иуду в свой круг как свидетеля и образец Божественного дела и как памятник той земной обреченности, которая в пределах этого земного существования вызывает сожаление, что нет резкого внешнего различия между добром и злом» — значит, все же не нравственные, даже не внутренние отношения, а наоборот, когда человек механически называется «памятником», да еще памятником химеры! Конечно, добро и зло смешаны в этом мире, но не так, чтобы красочно перемешались чистые святые и помазанники и чистые злые, чистые овцы и чистые козлы, а так, чтобы обе силы противоположности покоились и боролись вместе в каждой человеческой душе, и так, чтобы зло было лишь моментом в развитии самого добра. Когда, наконец, Вайс говорит, что разум злых не менее восприимчив к духовной силе великих