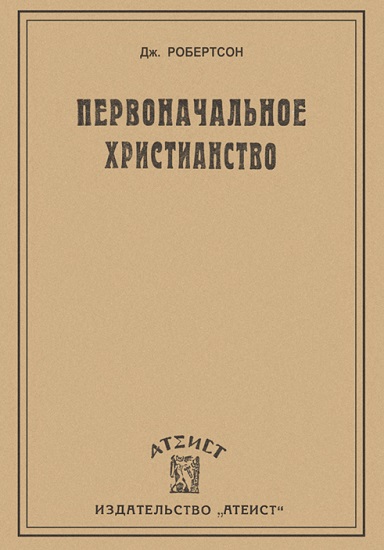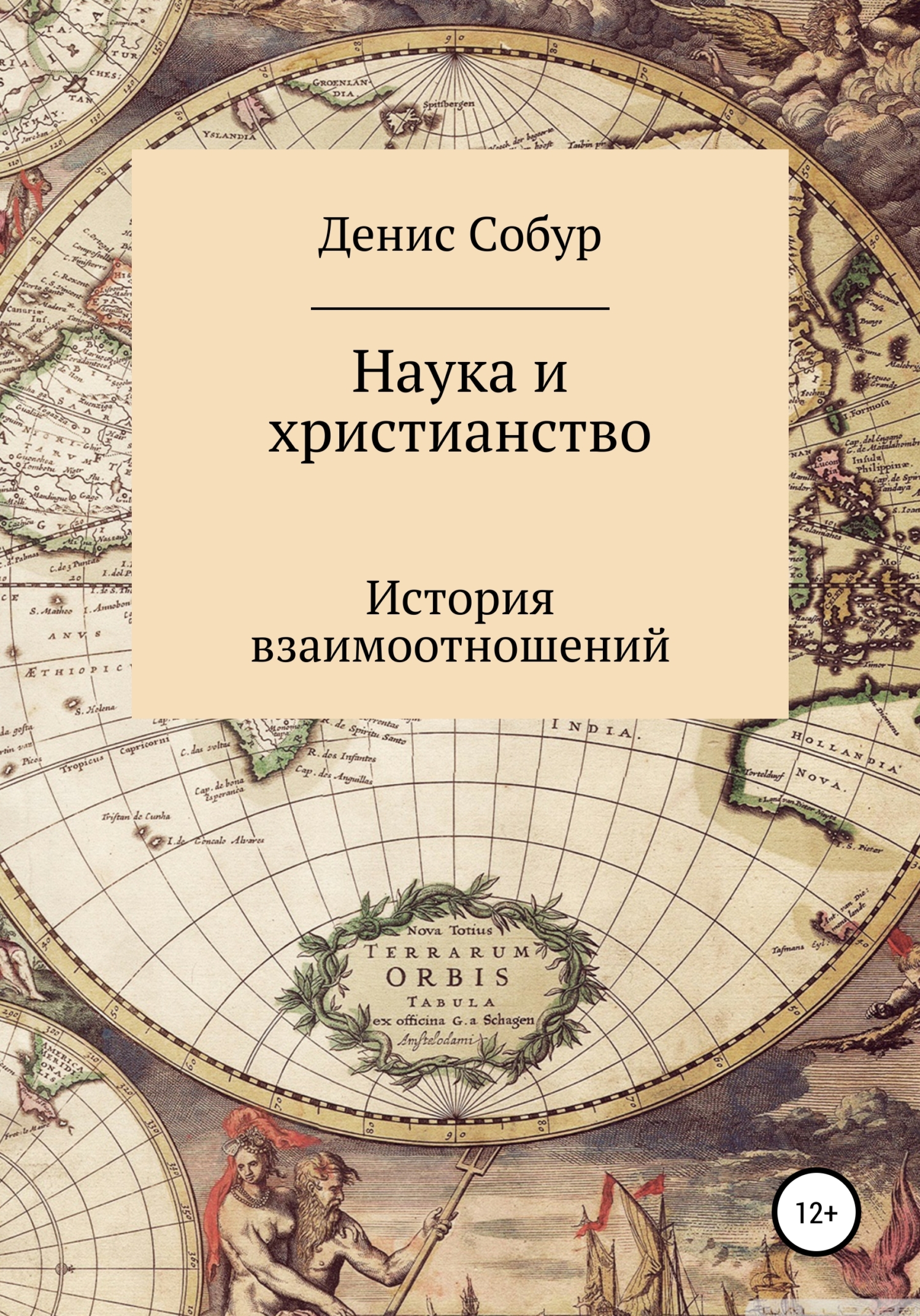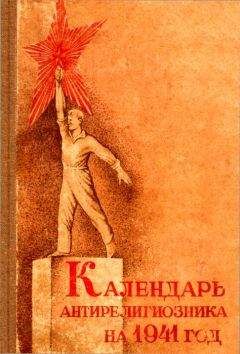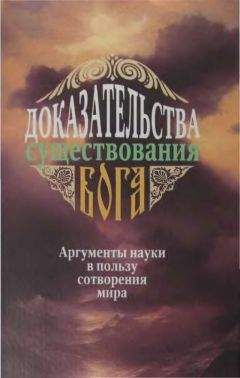на пытки, других отправлял в ссылку, одного казнил; он несомненно убил бы Афанасия, если бы этот великий агитатор не скрылся так хорошо у египетских монахов.
Под давлением императора собор в Римини высказался за арианство; для себя он придумал титул «его вечность» и называл себя господином вселенной. Только милость императрицы и собственные опасения императора спасли Юлиана от участи его брата, так как, по-видимому, он замыслил и его смерть.
Церковь была достойна своего главы. «Всякий раз при выборе или изгнании епископа — говорит один ортодоксальный писатель, — «наиболее славные престольные города христианства — Константинополь, Александрия, Антиохия — являли собой зрелище, которое опозорило бы революцию». Юлиан рассказывает, как целые толпы людей, обделенных еретиками, предавались смерти, особенно в Кизике и в Самосате, а в Пафлагонии, Вифинии и Галатии и многих других провинциях целые города и селения уничтожались дотла.
Во время одной резни в Константинополе — то была вторая по счету резня в связи с восстановлением в должности полуарианского епископа Македония (342) — погибло больше трех тысяч человек, гораздо больше, чем за целых десять лет во время последних языческих гонений. Ортодоксальная масса, разбившаяся на яростно борющиеся партии, сражавшаяся, как дикари, в самых храмах своих, обнаружила ту же жестокость, что и ее вожди. Перед лицом этих ужасов христианское духовенство проявило больше бессилия делать добро, чем какое бы то ни было другое духовенство.
Григорий Назианский, чьи свирепые речи иллюстрируют характер той эпохи, откровенно заявил, что он никогда не видел собора, который добился бы чего-либо, кроме ухудшения спора. Таково было христианство при первых воспитанных в христианстве императорах. А если считать Тиридата Армянского (302) первым христианским царем, то и здесь с первыми шагами христианства, как государственной религии, дело обстоит не лучше, так как и здесь новая вера распространялась огнем и мечом, а старую неустанно преследовали в течение ста лет жестоких религиозных войн между Арменией и Персией. Новая вера «пришла принести не мир».
Все согласны в том, что кратковременный эпизод «возрождения язычества при Юлиане — одна из интереснейших глав позднейшей истории собственно Римской империи. Единственный после Марка Аврелия император, привлекательный для нас, как человек и мыслитель, Юлиан поставил перед собой задачу, которая, независимо от ее успеха или неудачи, должна была высоко вознести его имя в летописях упадочной цивилизации; в сущности, его неудача делает его наиболее живой фигурой в длинном ряду монархов от Константина до Карла Великого. Именно при сопоставлении его с другими императорами обнаруживается величие Юлиана.
Если мерить его меркой прогрессирующей цивилизации и сравнивать его с великими мыслителями доимператорского мира и с лучшими государственными людьми последующих царств, он не окажется ни великим правителем, ни великим умом. Ожидать высшего государственного ума в общей обстановке упадка значило бы от начала до конца не понять историю империи. Если бы даже предположить, что в таком обществе мог родиться потенциально великий талант, он не мог бы развиться и проявить себя: этому мешала умственная и чувственная атмосфера той эпохи. Для того, чтобы могли появиться крупные умы, нужны были крупные люди, а империя положила конец этой породе людей.
Оригинальность мысли давно исчезла в этом мире, где наивысшим отличием считалась грубая сила, перед которой культурные люди пресмыкались, как животные под плетью. Неистовое творчество Лукреция и широкое здоровое суждение Цезаря стали тогда для носителей римского имени так же невозможны, как и жизнь форума времен Кориолана или греческая литература эпохи Аристофана. Процесс покорения мира под иго империи кончился тем, что все люди превратились в вьючных животных, и их наиболее способным вожакам оставалось только оседлать их.
Юлиан, впечатлительный ребенок, спасшийся от избиения всей его семьи, выросший среди книг, содержание которых никто не мог ему толково разъяснить, стал, в конце концов, верить во все религии, кроме той, которая стремилась искоренить все прочие. Погрузившись в теософию, он способен был радоваться исчезновению эпикурейцев, наименее легковерной и потому самой здравой философской школы. Но тех учений, которые он себе избрал, было достаточно, чтобы сделать из него надолго образец умеренности и самообладания; будучи властелином мира, он был целомудренным и воздержанным; он был справедлив и великодушен, несмотря на вызывающее поведение противников, на которое он мог бы ответить, если бы хотел, массовыми избиениями.
Он больше всего заботился о внутренней жизни, хотя умело управлял всей вооруженной силой государства. Если говорить о нравственности, то приходится сказать, что христианство никогда не дало ни одной области Римской империи правителя, достойного сравнения с Марком, Аврелием и Юлианом, и на всех тронах мира до настоящего времени не было человека, который стоял бы выше их по нравственному благородству. А если мы остановимся на веке Константина, мы не можем не поразиться тем обстоятельством, что Констанций «бледный», отец Константина, монотеист, но не христианин, и Юлиан, отвернувшийся от христианства к политеизму, были наилучшими людьми в ряду вышедших из этой семьи правителей.
Христианство привлекало к себе худших людей, Константина и его сыновей, и отталкивало или не умело удовлетворить лучших; как раз младший Констанций, воспитанный в христианстве, оказался хуже всех. Наиболее благородные душевные качества связывались с язычеством, а на стороне христианства оказывается знаменательное отсутствие хороших людей.
Короткая жизнь Юлиана была наполнена не только занятиями, но и испытаниями. Будучи воспитан в христианстве, он сумел в ту пору, когда его жизнь зависела от милости Констанция, составить себе свое собственное мнение о религии, кровавые плоды которой были перед его глазами. По-видимому, он был тайно обращен в язычество, когда он обучался в Пергаме, до убийства его брата (354).
Когда он был назначен цезарем (355), он находился под строгой опекой, и в течение пяти лет его умелого командования в качестве цезаря в Галлии и Германии, и даже после того, как легионы провозгласили его августом (360), он скрывал свою веру. Лишь тогда, когда он выступил в поход против Констанция, он открыто признал свою веру и принес жертвы древним богам, а когда смерть объятого страхом императора сделала его полновластным монархом, он начал усердно восстанавливать старые обычаи.
Будучи сам идеалистом и действительно аскетом, он старался превратить язычество в религию чистоты и милосердия, которая должна была перенять от христиан их первоначальную иудейскую практику воспомоществования бедным, и выступил против народной распущенности с той же твердостью, что и первые христиане, но применяя при этом стоическую умеренность, а не мрачный фанатизм. Для этой цели он построил и одарил новые храмы, вновь одарил жрецов