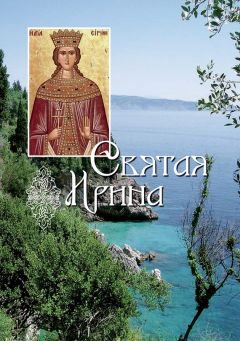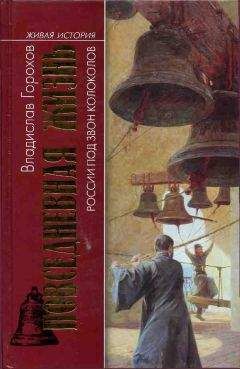Мы переходим к заключительной главе. В научном труде она называлась бы «Выводы». Но самыми весомыми выводами явились годы, последовавшие за октябрьским переворотом. Так бывает: дерево, которое кажется вполне живым и сильным, вдруг в одночасье подламывается и падает, — вся внутренность оказывается гнилой. Большевикам не потребовалось много усилий, чтобы повалить эту махину. Без внутренней гнили им нипочем было бы не совладать. Ведь стержень всякого государства — духовность.
Воспоминания о вполне возможном будущем
«Следует признать, что обширная литература о революционной ситуации в России в начале XX века практически оставляет без внимания культуру вообще и религию в частности. Как правило, существующая историография ищет истоки революционной ситуации либо в политических, либо в социально–экономических отношениях. В основном она сосредоточена на анализе противоречий между партиями и между институтами, либо конфликтов между социальными группами или классами. Культурный же аспект отодвинут на второй план (или вовсе игнорируется), в лучшем случае он рассматривается как отражение более фундаментальных экономических и политических явлений.
…Речь идет не о литературе или живописи, имеется в виду культура не в узком элитарном, а в антропологическом смысле этого понятия (т.е. комплекс идей и ценностей, влиявших на восприятие действительности отдельным человеком или группой лиц)» [500].
Американский профессор был бы неправ, если бы писал эти слова в последние дни уходящего тысячелетия, потому что за последние десять–двенадцать лет написано много иного, анализирующего последний период досоветской России не по марксистско–ленинской методологии. После того как был убран «железный занавес», стало возможным писать обо всем, во–первых, по причине раскрепощенности от коммунистической идеологии, а во–вторых, из–за полученных возможностей доступа ко многим материалам.
Нынешняя (последнего десятилетия) историография тоже страдает односторонностью, хотя надо признать, что дело обстоит гораздо лучше, чем раньше. Культуре и религии теперь уделяется немалое место. Но религия, по нынешним исследованиям, — это преимущественно православие. Да, православие было стержнем нашего общества; были, правда, еще и старообрядцы, которых так стали называть только после Манифеста 1905 г., а то все — раскольники: у них, в основном, двуперстие да один «ликир» (что это за слово, автор и сам плохо знает). А сектанты? Да у них на уме одно: потушить свет во время радения и заниматься свальным грехом.
Даже Дмитрий Поспеловский, авторитетный специалист по истории русской православной Церкви, не сделал и намека на репрессии, которым подвергались в России инаковерующие. Нет, самосожжений и самозакапываний, как в никоновский раскол, у сектантов нового времени не было. Не зря же их и называли рационалистическими. Они страдания за веру во Христа принимали по–своему, но слез, надругательств, крови и загубленных жизней в тюрьмах и на каторге было не меньше. А кровь людская, как известно, не водица.
Почему же все–таки инославные христиане не занимают надлежащего места в исследованиях, в художественной литературе и, как следствие, в представлениях россиян? Прежде всего, об этом нужно знать не понаслышке и относиться без предвзятости. Вот, к примеру, баптисты. Кто они? Это искренно обратившиеся к Богу в сознательном возрасте, а не в силу магического обряда детокрещения. Отсюда — все последующее: по социолого–статистическим исследованиям, в их среде нет пьяниц (по преимуществу они не пьют спиртное вообще), семьи в основном прочные; отношение к труду — честное, заработанные деньги все — тоже честные — в дом. Однако их можно упрекнуть в замкнутости: о них не пишут в газетах, не показывают на ТВ.
Мы видели, что так называемым сектантам было не до участия в общественной жизни. Советский период тоже был к ним неласков. Случалось, что детей из баптистских семей учительница ставила столбом посреди класса, чтобы одноклассники усвоили, как это позорно — быть баптистом. Баптист, принявший крещение в сознательном возрасте, обязательно «засвечивался». О нем было известно в спецорганах, он не мог поступить в институт.
Так сформировалось социальное самоосознание инославных в обществе. Раз в институты нельзя поступать, раз там преподается безбожие, — значит, знание, в собирательном смысле, не от Бога, значит, это чуждо. Таким образом, этих людей официальной идеологией и общественным мнением насильственно отчуждали, а завершилось тем, что и сами инославные христиане не тянулись к интеллектуальные занятиям. Потому церкви инославных христиан не богаты учеными, видными музыкантами. Нет даже добротных, на научной основе, исследований по истории инославного движения в России.
Так что, возвращаясь к профессору Грегори Фризу, исследование истории и религии в России еще имеет свои белые пятна. Изучение этих вопросов — дело непростое; всегда хочется, чтобы иной исследователь все четко систематизировал, но «не всегда надо искать в этой народной философии (возвращаемся к вопросу о так называемых сектантах. — А.Б.) определенной формулировки новых требований, — не всегда ее можно найти там, где все еще находится в брожении» [501]. Инославные христиане не были связаны старыми учениями и застывшими «уставами». Их «вероучение не стояло на одном месте… Напротив, мы видим постоянное крещендо, постоянное обновление форм веры…» [502].
Достоевский был прав, когда говорил, что человеку нужно осознать свое бытие, свой духовный смысл, — иначе он может покончить с собой, даже если бы вокруг него «все были хлебы». К таковым людям относились те, кому внушения, что они православные по крещению в младенчестве, мало что давало. «Нельзя упускать из виду, что кроме нужд чисто материальных, кроме запросов желудка, у народа существуют и другие потребности, неудовлетворение которых отзывается на нем также крайне болезненно и печально. Это потребность просыпающейся мысли, потребность чувства и сердца, жажда умственной, духовной деятельности» [503] — так писали о развивающемся новом христианском движении еще в 1881 г.
«Только крайняя умственная близорукость может утверждать, что наше современное сектантство представляет собой явление исключительно религиозное, чуждое всяких общественных и бытовых мотивов и стремлений» [504] — это тоже из того времени. И Вл. Соловьев сформулировал эту мысль более сжато: «Догмат и культ — не все христианство, остается еще социальное и политическое действие истинной религии» [505].
Нам еще предстоит привести ряд материалов того времени, когда в России назревал «великий перелом». Отметим, что если и гораздо раньше духовно–нравственная жизнь была не на высоте, о чем свидетельствовали благочинные и вынуждены были признать официальные отчеты, то в начале XX столетия в этом смысле был разброд. «В начале XX века значение религиозного фактора возросло не потому, что народ стал набожнее, а потому что царский режим лишился других традиционных основ своей легитимности. В XVIII и XIX вв. «законность» существовавшего режима покоилась кроме религии также на трех других основах: военной и политической мощи государства, его способности обеспечить благосостояние населения, а также на восприятии в народном сознании образа царя как «вождя» своего народа. Эти три основы к концу XIX в. во многом утратили свое значение» [506].
Поскольку эти факторы утрачивали свою силу, нужно было искусственно что–то делать, чтобы сохранить свой престиж, и «с целью сакрализации самодержавия проводился целый ряд мер, но наиболее сенсационной была кампания канонизации святых, получившая небывалый размах. Если с конца XVIII в. и до конца XIX в. состоялось всего три канонизации, то в царствование Николая II их было шесть и намечены новые. Теоретически эта кампания должна была способствовать сближению самодержавия с народно–религиозной культурой и ослабить реакцию масс на неудачи во внутренней и внешней политике» [507].
Еще в 1890–е годы было возбуждено ходатайство о канонизации Серафима Саровского. Синод отнесся к этому весьма скептически и несколько раз давал специальной комиссии задание уточнить верность о чудесах. В 1902 г. императрица сама подняла этот вопрос, и Синод под давлением царской четы пошел на канонизацию, но при этом в своем официальном определении специально подчеркнул, что за этим стояла инициатива царя. Разразился скандал, связанный с плохо сохранившимися останками Серафима (был снят тамбовский епископ Дмитрий, не подписавший акт освидетельствования). Даже Победоносцев был недоволен. Митрополит Петербургский Антоний был вынужден печатно признать, что останки истлели. В народе было брожение.