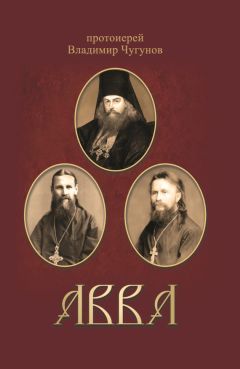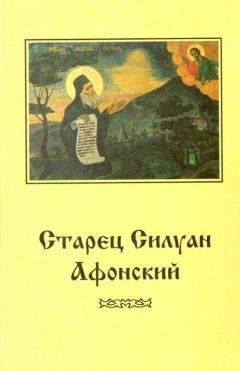Ознакомительная версия.
Русские славянофилы всегда относили пророчество о Византии к русскому православному царю, всеславянскому (Тютчев). Но этого мало для Софии.
Что для космоса Россия? Провинция. Славянство? Этнографическая группа.
Но София всенародна, она не национальная, местная, но вселенская церковь, все народы призывавшая под свой купол. А её хотят сделать поместною, народною, приходскою церковью, её, Кафедру мира… А вместе с тем заветы царства отданы Востоку, восточной церкви, Византии и России. Но как София была создана, когда не было ещё разделения церквей, так и возвращена будет христианскому миру, лишь когда его не будет: как этого не понимали наши славянофилы, что нельзя церковной провинции иметь храмом Софию. Единственная церковь должна породить единого Белого Царя, но этот царь есть историческое задание и мечтание Востока, которое трагически не удавалось до сих пор, и под развалинами царства рассыпалась и церковь, за вторым Римом рушится третий, но воскресает новый Рим, который в едином древнем Риме получил свои бармы, а Москва только промежуточная точка в пути…
Опять испытание для моей смертной воли: молодая женщина, католичка, никогда не знавшая католической веры, но жившая всегда с русскими, хочет присоединиться к православию – исповедаться и причаститься. И я опять перед той же трудностью, которая год назад стала передо мною, когда я присоединял Е.К. Ракитину (в том же смысле). Я спрашиваю себя: не лгу ли я пред Богом, «присоединяя» её, ибо присоединение в обычном понимании означает отречение от высшей церковной власти? Разумеется, она не понимает, что делает, для неё присоединение будет преображение, потому что она присоединяется к таинствам, но я при этом чувствую свой паралич всё яснее. Как было бы легко, ясно и радостно, если бы я мог искренно ниспровергать ересь латинства и присоединять к единой истинной Церкви. А между тем теперь у меня сознание, что я от полноты церковной увожу её в ущербное состояние, в провинцию. Изнемогаю от бессилия… что будет со мною, если жизнь будет ставить передо мною эти же вопросы всё в новой и более острой форме? Господи, Ты помоги, укажи, научи… Я не знаю, не могу…
В день Богоявления зашёл, наконец, разговор об этом у архиепископа Анастасия: он, конечно, заволновался, хотя я говорил только о желательности соединения церквей, но не о догматах… Кругом меня, в церковных кругах, среди духовенства и «мирян» всё остаётся неподвижно, косно, они ничего не нажили и не перечувствовали. Но гораздо хуже, что то же самое и в католических кругах, и здесь поместное заслоняет вселенское, иезуитский фанатизм здесь, в Константинополе, неразборчив в средствах, создалась атмосфера тяжёлая. И я чувствую, что я ударяюсь в каменную стену равнодушия, непонимания и оголтелости. А в то же время я среди них авторитет, за мною ухаживают, со мною носятся, а я… ношу в сердце измену: как будут меня поносить, как будут опечалены, когда это раскроется…
Я не имею покоя даже среди богослужения. Ко мне ходит отец Глеб В., католик. С одной стороны, я ему не верю, инстинктивно сжимаюсь перед ним, как перед змеёй, чувствуется какая-то лживость, задняя мысль, лукавство, «иезуитизм» во всей его повадке, а в то же время в церковном сознании я с ним, я к нему ближе, чем ко всем нашим (кроме далёкого отца Павла Флоренского), я вслушиваюсь в его речи, выспрашиваю его с тайным сочувствием. Вероятно, он и сам не подозревает, насколько я к нему близок, хотя, конечно, поражён (и, наверно, отписывает кому следует) переменой, во мне происшедшей с 1917 г., когда мы виделись. В сущности, мы единомышленники, но боюсь, не одинок ли и не так же ли бессилен и он в своей церкви, как и я в своей. Мы оба вывихнуты, он в католичество, в которое теперь и обращает, а я в схизму, которой уже не разделяю. Оба мы – уроды, опередившие своё время.
Слышал за это время рассказы о творившемся на Карловацком соборе, об его атмосфере: даже я не думал, что это так тяжело, так страшно, так безнадёжно. Там и не интересовались делами церковными – митрополит Антоний (Храповицкий) с обычным цинизмом заявлял: «кто теперь интересуется религией: два архиерея, 4 священника, да шесть мирян, правой или левой партии они служат» – всё было поглощено политиканством, – ищут нового барина, устроиться по-старому… И это в такое время, когда поля побелели от жатвы… При полной свободе (единственное место русской церкви) они ничего другого не нашли, кроме обычных банальных миссионерских резолюций. А затем и этот собор был отвергнут патриархом, и наступила смута.
В России Церковь погибает от советского гнёта, а здесь от внутреннего бессилия.
И разве возможно, разве мыслимо при этом противодействовать католической пропаганде?
И нечего отгораживаться благочестивым жестом о силе Божьей, в немощах совершающейся, для оправдания слабости и равнодушия…
Боже, укажи путь, научи!»
«11(24).01.1923
Получил письма: пишут из Белграда, из Праги и Софии, и везде одно: как нужен мой приезд для блага Церкви, какие надежды на меня возлагаются…
Если бы знали, что у меня на душе…
Но что же? или я обманщик, который обманывает всех и вся, или же на самом деле посылает меня Бог для важного и нужного дела и для него спас меня из пасти львиной.
Здесь православие уже есть нечто иное, чем было, до известной степени и есть в России: не общий и основной факт жизни, как бы сам собою разумеющийся для всех, и внутренних и внешних, но принадлежность общины в изгнании, национальная церковь: кроме католичества здесь только и есть ведь национальные церкви. Этим становится по-новому и дорого, и жизненно православие, но этим оно и развенчивается, низводится в этнографию. Этнографическими, по-видимому, являются здесь и остальные местные православные церкви, безучастно, а то и враждебно относящиеся друг к другу. И в этой жизненной переоценке православия как русской веры – не в России, великой, необъятной и практически безграничной, но в рассеянии, в изгнании. Только одна национальная вера была в то же время и вселенской у народа рассеяния, но ведь это и был избранный народ, и ему были даны все обетования. И его рассеяние было особое, как и его нерастворимость. Но теперь это умаление православия до уровня национальной веры испытывается как унижение и умаление: как какие-нибудь копты, маронисты, армяне, караимы… С этим умалением не может мириться ни русское сердце, ни русское церковное сознание. Или у русской церкви должен быть свой особый мессианизм, как и у русского народа, или она отжила, потому что влачить национальное, этнографическое существование она не может. Вселенское чувство должно быть удовлетворено.
Православие есть, несомненно, интегральная основа русской народности, теперь и здесь более чем где-либо и когда-либо, и вместе с тем русская душа совершенно неспособна к мелкому, этнографическому национализму: для этого она и слишком избалована величием своей истории, грандиозностью своего национально-исторического процесса, который тем самым практически принимался и за вселенский, и слишком рыхла и неоформлена, и слишком богата.
Для своего национального чувства русскому нужно вселенское ядро – это аксиома, а без этого он быстро утеряет вкус к церковности, то есть подвергнется самой существенной, внутренней денационализации (а я скажу: пусть лучше так, чем этнографическое православие чешского или даже греческого образца). Итак, рассуждая чисто отвлечённо: то, что содействует поднятию кафоличности в русской вере, в русском православии, то содействует и духовному сохранению русской народности…»
«16(29).01.1923
Вчера я служил с архиереем в греческой церкви Панагии (Введение во храм на Пере)…
Прежде всего внешнее впечатление: большой храм с колоннами и отгороженным какими-то стеклянными стенками (как кассы в магазинах) пространством пред алтарём, масса электричества (тоже вроде иллюзиона), икон мало и плохие, даже на иконостасе грубая и безвкусная позолота, но в общем самый храм произвёл скорее благоприятное впечатление своими размерами, и он был переполнен.
Когда мы пришли, царские врата были открыты ещё от ранней литургии (здесь и боковые приделы имеют одни общие царские врата). Говорят, что обычно царские врата представляют собою большую дорогу, по которой все, даже не исключая женщин, шляются к алтарю. Мы, конечно, заперли.
Самый престол удлинённый, на католический манер (говорят, что обычно на Востоке алтарь бывает и совсем у стены – явный знак древности этого обычая), под киворием на столбах, с занавесом, окружён приступкою. На нём крест, что-то вроде двух рипид и свечи, большая дарохранительница. Крестов у них своих на престоле нет, были наши.
Антиминс без плитона (плата), часто бывает и без мощей. Жертвенник также под навесом и с занавескою, справа и слева, общий для двух престолов.
Толпится беспорядочно народ, хотя, видимо, стесняются и на нас смотрят наивными, дикарскими глазами, светские и попы в характерных камилавках, и с косицами пучком.
Ознакомительная версия.