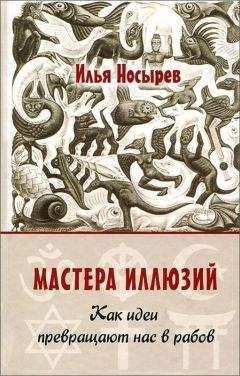Иммобилизм дарит мемам долгую жизнь, но в конечном счете подводит их на край гибели: мемплекс, сумевший привить своим носителям горячую любовь к традиционной культуре (т. е. к себе самому) и запрещающий менять даже самые незначительные детали их образа жизни, в итоге окажется менее успешным, чем те мемплексы, которые поощряли развитие экономики и техники: история колонизации Юго-Восточной Азии европейцами — прекрасное тому подтверждение. Тяга к научному познанию сама по себе не является паразитическим мемплексом, однако вполне может срастись с каким-нибудь агрессивным мемплексом — например, идеологией глобализации: культура потребления оказалась мощным ледоколом, взломавшим оболочки информационных капсул, в которых существовали члены традиционных обществ. Агрессивные мемы, связанные с индустриализацией и капиталистической экономикой, долгое время виделись позитивным началом, двигателем прогресса — однако сейчас мы все чаще осуждаем глобализацию и общество потребления и находим все новые факты, подтверждающие, что они могут не только не способствовать прогрессу, но и препятствовать ему. В целом мир приходит к пониманию того, что развитие экономики и культура потребления не являются сами по себе прогрессивными: они могут быть благом или злом — в зависимости от ситуации. Какое-то время индустриальная экономика давала странам, которые на нее ориентировались, и биологические преимущества (росла продолжительность жизни, снижалась смертность), и преимущества в научной сфере. Однако сейчас, превратившись в своего рода догму, западный путь развития становится консервативным: внешне он попрежнему поощряет развитие, но на самом деле это развитие может идти лишь по тем рельсам, которые были проложены едва ли не век назад.
Следуя кантианскому принципу, прогресс можно было бы определить как освобождение человека и общества от субъективности, обусловленное возрастающим пониманием законов реальности. Но что такое рост понимания? Многие из «объективных» представлений о мире и человеке подчинены концепциям, утверждающимся в нашем сознании не в силу их соответствия фактам, а просто в силу их привлекательности. Сужение рамок научного творчества, неприятие революционно новых идей и концепций, периодическое возникновение догматических теорий, претендующих на то, чтобы дать объяснение всем фактам из всех областей (таких, как марксизм или психоанализ), бюрократизация науки и подмена достижений формальной карьерой, отчаянное сопротивление любым попыткам междисциплинарного синтеза даже между близкими областями говорят о том, что и научный прогресс — во многом процесс меметический. Другое дело, что задача подлинного ученого в том и состоит, чтобы победить мемы с их собственными, противоположными познанию задачами.
Конечно, история науки показывает: как ни препятствуй открытию законов природы, они все равно будут сделаны и обнародованы — церковь могла сжечь Джордано Бруно и заставить отречься Галилея, но не могла помешать их последователям экспериментально доказать их правоту. Догматические, лженаучные мемы в точных и естественно-научных областях имеют относительно мало возможностей задавить подлинно научные открытия, поскольку всегда есть возможность установить истину при помощи эксперимента. Вот почему развитие науки и техники в известной степени предрешено: невозможно представить цивилизацию, осваивающую космос и при этом не знающую электричества, или капиталистическую империю, не знающую парового двигателя. Принятие научных истин выгодно с прагматической стороны: возможно, китайская средневековая математика была более изящна, нежели современная ей европейская механика, однако создать огнестрельное оружие она не позволила. Даже самая твердолобая догма вынуждена отступать перед практической пользой: так, в СССР в сталинский период кибернетика считалась лженаукой, однако взгляд пришлось пересмотреть, когда выяснилось, что роботизированные устройства могут быть использованы в военных целях. А вот с гуманитарными науками дело обстоит иначе: в массе своей они не дают никаких практических преимуществ, а в большинстве из них невозможна даже постановка эксперимента. Вот почему именно там то и дело наблюдается засилье догматических концепций, а аргументы зачастую опираются не на факты, а на пристрастия дискутирующих сторон.
При том что проверить истинность той или иной гуманитарной концепции возможности мало, многие из них обладают достаточно большой привлекательностью для широких масс, что сближает их с религиями. В секулярную эпоху «универсальные» гуманитарные концепции, которые установили собственную систему координат в политике, социологии, истории и даже в обыденной жизни, сумели дать иллюзорные ответы на волнующие людей проблемы. Социализм, коммунизм, националистические конструкты вроде фашизма стали настоящими вселенскими идеологиями секулярного века, так же, как религии нового типа, они легко перешагивают национальные границы и даже нередко границы религиозные (что говорит об их высокой конкурентоспособности по сравнению с религиями): социализм стал идеологией как Христианско-демократического союза Германии, так и Партии арабского социалистического возрождения. Конечно, агрессивные националистические идеологии вроде гитлеровского фашизма не могут продержаться в общественном сознании сколько-нибудь долго — но объяснение их недолговечности, увы, далеко от морального: дело не в том, что они ужасны и бесчеловечны, а в том, что они негибки, не оценивают ситуацию реалистично и ведут к конфронтации со всем миром; они требуют от носителя слишком много и слишком мало дают ему взамен. Однако тот факт, что тоталитарные идеологии продолжают процветать даже несмотря на их повсеместный запрет, говорит об их высокой привлекательности: это своего рода «политические религии» (согласно терминологии Ханса Майера8) — они воспитывают у своих адептов эксклюзивизм и догматическое мышление, заставляют пропагандировать свои взгляды и ненавидеть инакомыслящих, верить в то, что приверженность идеологии способна радикально реформировать мир, построив «царство Божие на земле». Но относится ли все это лишь к радикальным политическим учениям? Увы, нет: точно то же самое можно сказать о любых из них. Возможно, либеральная идеология и является самой совершенной из всех существующих, но и ее сходство с религиозными доктринами вполне очевидно: она стремится к собственному распространению, заставляя западные страны насаждать ее в странах третьего мира — хотя бы даже и путем интервенции. Другое дело, что, подобно мировым религиям, она всетаки чаще полагается на пряник, а не на кнут, прибегая к доброжелательной улыбке христианина и великому состраданию буддиста.
Более того, попытки выяснить, почему в определенный исторический момент те или иные политические идеологии начинают доминировать, а другие сходят со сцены, в значительной степени оказываются бесплодны. Как в случае с религиозными мемплексами, успех идеологий может объясняться их пользой для сообщества, их исповедующего, а может — их привлекательностью; отличить одно от другого зачастую почти невозможно. Вот пример: современные историки обычно объясняют крах советского социализма тем, что это учение было менее целесообразным, чем либеральный капитализм: так, советская идеология искажала представление о человеке, изображала граждан СССР лишенными прагматизма и жажды преуспеяния альтруистами; поддерживаемая этой идеологией плановая экономика закончила тем, что привела страну в тупик зависимости от нефтедолларов. При этом исследователи мало внимания обращают на важный факт: фиаско советской системы было едва ли не в большей степени поражением государственной пропаганды. В СССР не сумели создать столь же привлекательного образа style of life, как американский: советская культура звала к борьбе и делала акцент на жизненных трудностях — нынешнее поколение россиян, например, часто задается вопросом: почему советские мультфильмы, при всем художественном совершенстве, так безысходно печальны? Я рискну утверждать, что советский социализм пал прежде всего жертвой собственной непривлекательности, нежели экономической и социальной нецелесообразности.
Сходство политических доктрин с религиозными порождено теми же процессами конвергенции, о которых я говорил в четвертой главе: есть ограниченное количество качеств, обладая которыми, мемплекс может стать триумфатором. На своем пути к превращению во «вселенское» учение он будет пользоваться всеми ими, стараясь закрепиться в сознании людей как догма. При этом практически любая политическая доктрина, подобно религии, рано или поздно вступит в противоречие с развитием науки, поскольку политическая идеология подразумевает догму, а не подлинный прогресс: все издержки политкорректности, стремление понравиться как можно большему числу потенциальных сторонников, что приводит к сглаживанию острых углов — вплоть до затушевывания любых, даже самых невинных фактов, которые, например, свидетельствуют об интеллектуальном неравенстве людей, — все это симптомы неизбежного конфликта интересов человека и его идеологии.