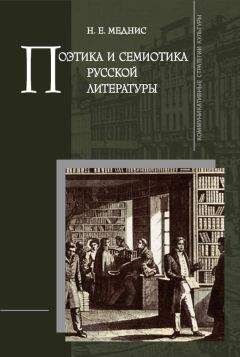моральной схеме в После добродетели.
То обстоятельство, что это был тот тип историцисткого тезиса, который я выдвигал и выдвигаю, не было установлено с достаточной ясностью; это же относится к той форме аргумента, который я отвергал в пользу более адекватно специфицированного тезиса. Так как я не просто утверждал, что проект Просвещения провалился с точки зрения собственных стандартов, поскольку его сторонники не преуспели в спецификации однозначно обоснованного множества моральных принципов, с которыми не мог бы не согласиться полностью рациональный субъект, или что также провалилась по ее собственным же стандартам моральная философия Ницше, но я утверждал также то, что основания для понимания этих провалов могут быть обеспечены исходя из ресурсов аристотелевской концепции добродетели, которая точно так, как я описал это, оказывается в свете исторического контекста наилучшей теорией. Но заметьте, что я не утверждал в работе После добродетели, что могу поддержать этот тезис, не говорю я и того, что делаю это сейчас. Ну что все-таки тут можно сделать?
Анетта Байер попеняла мне за непонимание мною силы аргументов Юма (в статье, которая появится в Апаlise and Kritik); а Нора О'Нейл утверждала, что мое рассмотрение Канта избирательно и упрощенно (статья появится в Inquiry). Я испытываю большую симпатию к обоим упрекам, потому что и в самом деле два очень различных рассмотрения практического разума, выдвинутых Юмом и Кантом, представляют основной вызов аристотелевской схеме и соответствующему объяснению в ней практического разума. И до прояснения соотношения этих трех рассмотрений центральный тезис После добродетели не будет установлен должным образом, как того требует историцистская теории познания, предполагаемая в этой работе дискуссионным нарративом. Наконец, нельзя пройти мимо весьма отличного типа критики принятого в работе После добродетели соотнесения философии и истории. Франкена считает, что я недостаточно ценю аналитическую философию; Абрам Эдель полагает меня слишком большим аналитиком и обвиняет меня в том, что я «еретик-аналитик, чья ересь остается связанной пуповиной с аналитической традицией» (Zygone, 18,1983: 344). Суть этой критики состоит в том, что сначала я сфокусировал слишком много внимания на уровне точного теоретизирования, артикулированных концепций и историй, рассказанных об условиях их существования различными людьми, и не уделил достаточного внимания реальной социальной и институциональной жизни этих людей и, во-вторых, что мой выпад привел меня к искажению действительно сложной истории морали в интересах моей собственной аристотелевской точки зрения. Там, где Франкена видит во мне неадекватного аналитического философа с излишним, если не вообще ненужным интересом к истории, Эдель видит во мне неадекватного социального историка, ненужным образом тянущего за собой аналитическую философию. Таким образом, критика Эделя есть зеркальное отражение критики Франкены, и это обстоятельство вовсе неудивительно.
Точно в той же манере, в какой философская история, которую я хотел рассказать, порывает в определенных местах с канонами аналитической философии, в других местах я нарушаю каноны академической социальной истории, вероятно, двумя способами. Во-первых, исходя из моего взгляда на теоретические и философские предприятия, я полагаю, что их успехи и неудачи гораздо более влиятельны в истории, чем это полагают академические историки вообще. Вопросы, требующие здесь прояснения, касаются фактов причинного влияния. Они включают такие вопросы, как влияние мыслителей шотландского Просвещения на британские, французские и американские социальные, моральные и политические перемены. Ответы на такие вопросы зависят от исследований, например, социальной роли и эффективности университетов как носителей идей. И, может быть, что в конце исторического исследования окажется, что мое внимание к точному теоретизированию, артикулированным концепциям и пересказу истории будет неуместным. Но пока я в этом не убежден.
Во-вторых, нарративы академической социальной истории пишутся таким образом, который предполагает как раз тот вид логического различения вопросов факта и вопросов оценки, который отрицается моей трактовкой нарратива. И философская история, составляющая центральный нарратив После добродетели, написана с точки зрения заключения, которая достигается и поддерживается в После добродетели — или скорей поддерживалась бы, если бы нарратив был усилен таким образом, каким я надеялся его усилить в последующих работах, которые выйдут вслед работе После добродетели. Так что нарратив После добродетели не случайно и не по умолчанию не является нарративом преднамеренной однобокости.
И все же Эдель, конечно, в значительной степени прав в обоих своих обвинениях. Значительная часть социальной и институциональной истории, к которой весьма косвенно обращается После добродетели, на самом деле существенна для того вида нарратива, который я указал в После добродетели, но в котором я не преуспел еще при написании истории; а история соотношения аристотелевской концепции добродетелей с другими моральными схемами, начиная с платоновской, конечно, гораздо более сложна, чем это представлено у меня. Таким образом, как Франкена, так и Эдель сделали дружеское предупреждение как мне, так и моим читателям, указав на те вопросы, которым я уделил недостаточное внимание. Их критика оставила меня в неоплатном долгу перед ними.
2. Добродетели и проблемы релятивизма
Сэм Шеффлер выразил серьезные сомнения относительно моего рассмотрения добродетелей (Philosophical Review, 92, 3, 1983). То же относится к С. Хауэрасу и Р. Уоделлу (The Thomist, 46, 2, 1982). Роберт Уочбройт предположил, что одно следствие этого рассмотрения состоит в том, что релятивизм неизбежен (Yale Law Journal, 92, 3,1983). Я смогу ответить Уочбройту только в том случае, если я сумею успешно ответить на вопросы, поставленные Шеффлером, Хауэрасом и Уоделлом, и поэтому их скептические вопросы относительно центральных моментов в моем конструктивном аргументе следует рассмотреть вместе.
Мое рассмотрение добродетелей проходит в три этапа: во-первых, оно касается добродетелей как качеств, необходимых для достижения благ, внутренних по отношению к практикам; во-вторых, рассмотрение их как качеств, вносящих вклад в благо целой жизни; и в-третьих, оно соотносит их с преследованием блага человеческими существами с концепцией, которая может быть разработана в рамках некоторой ходовой социальной традиции. Почему надо начинать с практик? Другие моральные философы в конце концов начинали с рассмотрения страстей или желаний или же с уточнения некоторой концепции долга или блага. В любом случае обсуждение было слишком приспособлено к тому, чтобы можно было обойтись некоторой версией различения средств и целей, согласно которой вся человеческая активность либо направляется средствами к уже данным или решенным целям, либо к целям, ценным самим по себе, либо то и другое. В этом взгляде упущена из виду человеческая активность, в рамках которой должны быть открыты и переоткрыты цели и средства, с помощью которых они достигаются. Тем самым затемняется важность тех способов, которыми эти новые модусы порождают новые цели и