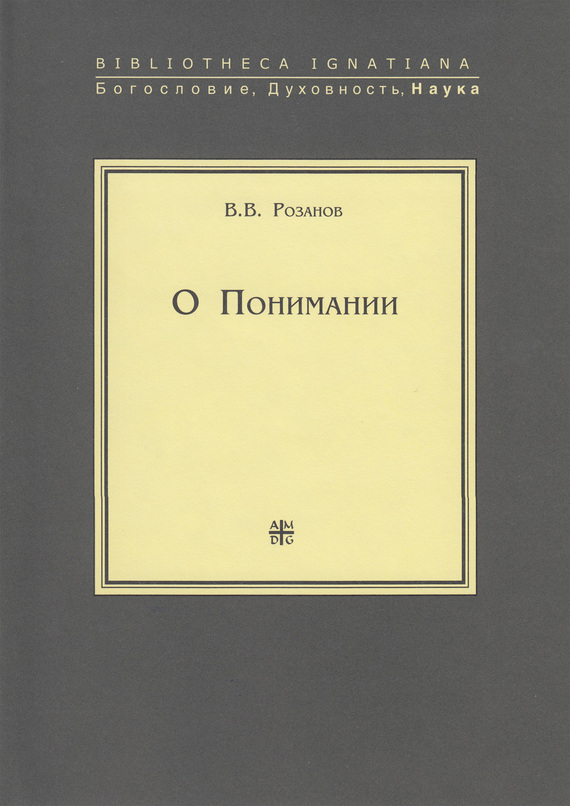в них, но не их самих; так что не можем ни бороться, ни даже замечать и чувствовать того общего и могучего исторического течения, которое уносит нас и с нами все, что мы создаем, чем живем, над чем трудимся и чему радуемся. И только время от времени, отрываясь от этого частного, за которым скрыто от нас общее, немногие проницательные умы видят, от чего мы отошли и к чему приблизились, что стало невозвратимым более и что неизбежно уже, к чему мы не имеем силы вернуться и от чего не имеем мудрости уклониться. Кто думал об опасности для всех высших форм творчества, когда, усложняясь и ускоряясь, жизнь невозвратно увлекла в свой поток человека и смыла все, что в нем поверх животного? Кто мог поверить, что с тех пор, как наука со своими открытиями станет двигателем жизни, эта жизнь неуклонно будет двигаться к разрушению науки, что плод познания убьет корень его? Кто мог предвидеть, что в простом ускорении всех человеческих сношений заключается более опасностей для Религии, нежели во всех ересях, какие когда-либо волновали религиозный мир? Никто не восставал и не боролся против Религии, но кто устоял в ней? Скажем более, какая человеческая мудрость и какая сверхестественная сила могла бы сделать, чтоб человек все еще продолжал думать о ней, т. е. чтобы, живя среди хаоса бегущей жизни, он жил бы так, как будто вокруг него была пустыня, чтобы он не чувствовал этого хаоса, не знал о нем, не хотел в нем? Нет, не человек отпал от Творца своего: он не виновен ни в чем, кроме бессилия; но иная могущественная воля непреодолимо отвлекла его от Творца, и против этой воли восстанет ли когда-нибудь равная, чтобы преодолеть ее, об этом не нам судить, и это не нам предвидеть.
Но там, где мы бессильны предвидеть и где бессильны выполнять, нам еще остается жаждать и ожидать. Пусть это немощно, пусть это не изменит хода исторического развития; оно определит наше отношение к нему, оно рассеет фантомы, которыми окружены мы и за которыми скрыто от нас истинное положение вещей.
Итак, к тому, что мы сказали о Религии ранее, – именно, что, судя по всему, что мы можем понимать в ней, ее содержание составляет действительно происшедшее некогда и действительно имеющее совершиться в будущем, и еще далее, что в нем нет ничего запутанного и противного порядку природы, но, напротив, в обратном ей скрыто и противоречие, и противоестественность в смысле несогласия с природою вещей, какою мы знаем ее, – прибавим к этому еще и несколько слов о внутреннем достоинстве самой религиозной жизни. Мы не хотели бы, чтобы человек из малодушия, только по необходимости преклонился перед чем-нибудь неистинным, и поэтому истинность, а не внутреннее достоинство есть первое и основное в Религии, что представляется нам. Но мы знаем еще – об этом упомянуто было при рассмотрении осложненных политических форм, – как нередко человек не может преклониться и перед истинным, когда оно почему-либо непреодолимо мешает ему привязаться к себе. И поэтому второе, на чем останавливается наше внимание, есть достоинство Религии и жизни в ней.
Не будем обманываться; перестанем видеть только те цели, которые непосредственно перед нами, а заглянем на то, что лежит за ними и впереди их. Пусть будет достигнуто все, чего желает человечество как в духовном, так и в материальном отношении – почувствует ли оно удовлетворение? Пусть я обладаю громадными знаниями, всеми, каких желаю, и пусть обеспечен материально – это также все, его я желаю. Буду ли я удовлетворен, наполнится ли мой внутренний мир непреходящим покоем и непреходящею радостью? Для меня лично нет сомнения, что с этим достижением в душе моей воцарится постоянный холод и для меня утратятся и те небольшие радости, которые я имею теперь, когда или новая мысль осветит мое сознание, или когда я избегну какой-нибудь материальной неприятности. Есть глубокая справедливость в мысли, что все, что ни делает человек, он делает для того только, чтобы забыться. Он страшится остаться с собою, почувствовать себя, почувствовать свое существование. Поэтому хорошо ему не тогда, когда он все знает, но именно тогда, когда он многого еще не знает; и не тогда, когда он всем владеет, но тогда, когда ему многого еще недостает. Малые мучения, испытываемые в жизни, даны в удел человеку не в наказание, но из милосердия, чтобы он не чувствовал другого великого и нестерпимого мучения – мучения природы своей человеческой; мы не можем назвать его иначе, потому что оно не имеет другого источника. Это мучение поднимается всегда, когда человек остается один, наедине с собою, и заглушается только внешними и гораздо лучше выносимыми страданиями. Его испытывали многие люди – все, которые наделены глубокою душою, и оно засвидетельствовано как факт историею. Различными именами называли его испытывавшие: пресыщением жизнью, усталостью жить, бесцельностью; но все испытывавшие не расходились в одном, что, тогда как все другие несчастья выносимы для человека – бедность, болезнь, потеря близких людей, и он или примиряется, или борется с ними, – это одно несчастье невыносимо, и при нем становится невозможно жить (Рим перед эпохою падения). Итак, если это факт, что на высокой ступени духовного развития и обладая высоким материальным благосостоянием человек может чувствовать себя нестерпимо несчастным, то не ясно ли, что это развитие и это благосостояние не может составить последней цели его стремлений? Это с личной субъективной точки зрения. Но разве можно сказать, что счастье достигнуто человечеством, когда каждый отдельный человек может испытывать в нем страдания, и притом не один и не несколько, но неопределенное количество их, и не какое-либо преходящее, но нестерпимое? Разве человечество испытывает что-либо иное, чем то, что испытывают составляющие его люди, и разве можно стремиться доставить ему то, что в отдельности никому не нужно?
Но не это одно страдание внутренней пустоты и холода овладевает человеком, когда он остается наедине с собою. Мудрые и дальновидные чувствуют еще ужас такого одиночества. Человеку трудно вынести свою природу, и человечеству трудно будет вынести жизнь. В природе человека есть столько темного, ужасающе низкого и, однако, неудержимо влекущего к себе, его уму так присуще колебание, он так способен к оправданию дурного, что ни за что нельзя поручиться, что оно никогда не будет совершено, и ни о чем нельзя сказать, что оно постоянно будет исполняться. Человеку тяжело, невыносимо остаться со своею природою и не иметь над собою ничего высшего, что могло бы помочь ему сдержать эту природу.