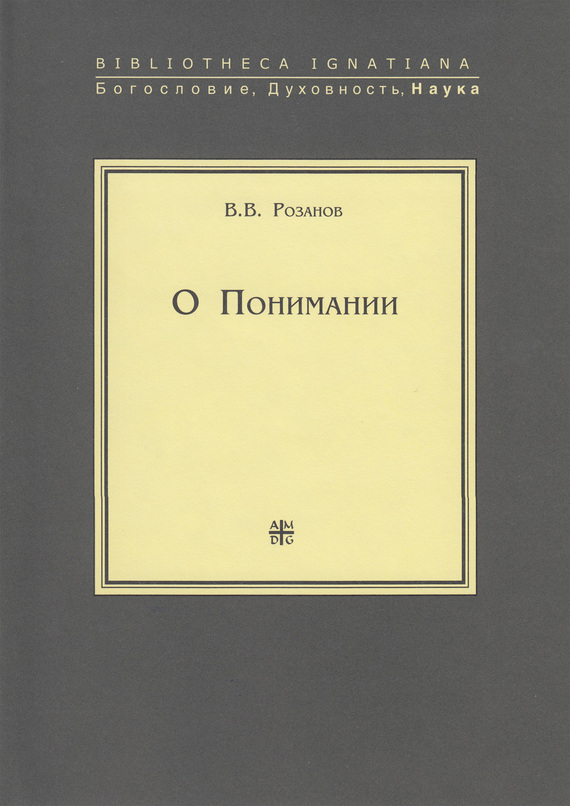разум, в котором под влиянием сомнения начали образовываться новые идеи, слагаться иное понимание, обладает ясностью, то он не воспринимает те из них (идей), которые смутны и безотчетны, и принимает только те, которые ясны и правильны. Поэтому сочетание сомнения и ясности в строении мышления необходимо создает то, что составляет части науки, т. е. отдельные части истинного понимания.
Но для образования цельной науки необходимо еще другое свойство ума – последовательность в развитии воспринимаемого и стремление к этому развитию. Это свойство и это стремление вытекают отчасти из самой ясности и отчетливости мышления. Последнее, строго отделяя известное от неизвестного, повсюду выделяет грань между ними; и так как известное обыкновенно находит свою опору и свое объяснение в неизвестном, то отсюда вытекает постоянное стремление ума все глубже и глубже спускаться в область неизвестного. Этот процесс обоснования известного через раскрытие неизвестного и есть то, что мы назвали стремлением разума к развитию воспринимаемого им. Заметим, что это постоянное сознание грани между известным и неизвестным есть условие, без которого невозможно развитие науки, – а между тем оно встречается нечасто. Обыкновенно не сознают отчетливо этой границы, и неизвестное считается уже известным; это совершенно убивает науку, потому что убивает источник ее – стремление узнать неизвестное: нет интереса исследовать то, что кажется уже известным. Вот почему верующая религия со своею нетерпимостью и преследованиями гораздо менее повредила развитию науки, чем верующий скептицизм [35]. Первая не скрывала, что есть многое необъятное, что остается неизвестным для человека. Поэтому эпохи ее господства отмечены в истории великою пытливостью духа и плодотворными открытиями. Вся греческая философия выросла и развилась в глубоко религиозное время: Ксенофан, Эмпедокл, Парменид, Анаксагор, Сократ и ученики его – все они жили в эпоху, чуждую распущенности религиозного чувства, и потому-то именно во всей жизни и в каждом слове их чувствуется такая удивительная любознательность, и любовь их к трудно доставшейся истине была так велика, что некоторые из них ради нее решались оставить отечество, а другие приняли смерть. Так же и в Европе эпоха высшего развития религиозного чувства отмечена великими системами схоластической философии – Альберта Великого, Дунса Скота, Вильгельма Оккама, Рожера Бэкона и многих других, а полное одушевления реформационное обновление церкви тотчас же за собою вызвало основание новой философии и почти всех наук, какие существуют теперь: Декарт участвовал в 30-летней войне, ему современником был Бэкон, а учениками первого были Гейлинкс, Малебранш и Спиноза, а второго – Локк и Ньютон. Напротив, то, что мы назвали верующим скептицизмом, эта уверенность, что в неизведанных еще областях бытия нет ничего отличного от того, что есть в изведанном, всегда порождал умственный индифферентизм, при котором невозможно плодотворное изыскание в науке. Так, все эпохи религиозного упадка были вместе и эпохами умственного падения. Когда пала греческая религия, с нею и философия выродилась в бесплодную александрийскую ученость; когда с Возрождением пал католицизм, пала и схоластическая философия, а новая, это замечательно, не зародилась, она, как сказано уже, появилась только после Реформации. Наконец, когда оживление, вызванное последнею, заглохло в XVIII в. и наука утратила свой истинно плодотворный характер, это столетие сделало только общеизвестным то, что было создано великим предыдущим столетием. Но замечательно, что как только с начала нынешнего столетия и до 50-х годов вновь возродилось религиозное чувство, тотчас вновь возродилась и оригинальность науки. В это именно время германский дух создал гуманные науки – науку о языке, историю древнюю и средневековую, историю права и многие другие. И как только с того времени вновь ослабло религиозное чувство – наука все более и более стала перерождаться в ученость, и той пытливости духа, которою исполнены были оба Гумбольдта, Риттер, Эли де-Бомон, Нибур, Пухта, Савиньи, оба Гримма, мы уже не встречаем более. Это неизменное сопутствование двух фактов, сильной религиозности и духа научного изыскания, продолжающееся в течение всей истории человечества, не разрывающееся ни при каких прихотливых изменениях одного из них, заставляет предполагать между ними причинную связь, которую мы постарались указать в постоянном сознании при религиозности грани, отделяющей известное от неизвестного. Оно, это сознание, лежащее следствием в религии и причиною в науке, делает то, что наименее религиозные народы суть вместе и наименее способные к науке, и обратно – наиболее религиозные обнаруживают наибольшее творчество в ней.
Кроме ясности ума, указывающей на грань между известным и неизвестным, для стремления к дальнейшему развитию воспринимаемого необходима еще пытливость его, неудержимо влекущая человека переступить эту грань. Она порождается некоторою болью ума при ощущении недостающего в понимании. И последняя бывает настолько нестерпима, что для восполнения этого недостающего переносится всякая физическая боль. Эти два последние свойства производят то, что мы назовем духом изыскания, разумения в человеке. Пробуждаемый первоначально сомнением, он затем, в свою очередь, пробуждает новые и новые сомнения и становится истинным двигателем науки, неотдыхающим и неустающим.
Итак, вот условия образования науки – каждым народом и в нем каждым человеком. Необходимо стремление к познанию, и оно порождается сомнением. Необходима способность к познанию, и она порождается – ясным строем мышления, который отделяет истинное от ложного, и последовательностью в мышлении, которая порождается тою же ясностью и еще пытливостью; пытливость же порождается сознанием грани между известным и неизвестным.
Из сказанного очевидным становится, что зарождение, развитие и упадок науки всецело и исключительно обусловливаются причинами, лежащими в природе человека – состояниями и свойствами его разума. Поэтому ничто внешнее для человека никогда не создавало и не создаст науки, никогда не останавливало и не остановит ее. Чистый интерес ума узнать еще неузнанное – вот единственное, что двигало ее, и раз этот интерес прекращается, наука умирает безусловно и безвозвратно.
Отсюда становится понятным, почему так безуспешна была всегда борьба против науки и почему так бесплодно все, что делается для ее процветания. И те и другие усилия основывались на непонимании ее сущности и ее происхождения; и все, что создавали и что создают они, лежит вне науки, в стороне от пути, которым двигается она. Костры не остановили ее, а университеты и академии не помогут ей.
И в самом деле, какие гонения перенесла она, и они не приостановили ее развития, потому что не действовали на причины, из которых она развивается. Века наибольших преследований не были ли веками ее величайшего торжества, временами открытий, о которых с детства привыкли слышать мы? И напротив, сколько усилий делается теперь для ее развития: собираются библиотеки и музеи, устраиваются академии, и жизнь тех, кто проводит в них свои долгие и лучшие годы, обеспечивается во всем,