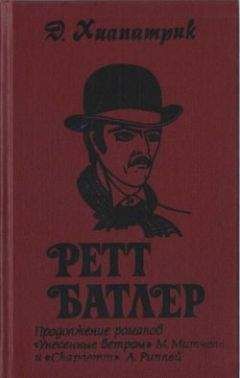точки зрения Маркса – и именно поэтому является наиболее эффективной производительностью. «Производительность» стихов из Гуантанамо может быть понята как пример такой виртуозной постопераистской производительности: ведь даже если стихи, написанные зубной пастой смываются водой или просто используются в качестве зубной пасты по её прямому назначению в соседней камере, эти «ненадежные» художественные практики не отменяют производительность исполнительской практики стихосложения, осуществляющегося в ситуации «жизни после Освенцима».
В то же время Батлер, в отличие от философов-постопераистов, считает, что такая исполнительская производительность, которая отличает стихи из Гуантанамо или акты коллективной вокализации на площади Тахрир и в движении «Occupy», делает возможными изменения, осуществляющиеся не только на уровне аристотелевской неактуализируемой потенциальности (один из базовых концептов и в философии Агамбена, и в философии постопераизма) или онтологического измерения политического (в терминах Лаклау, Рансьера и других теоретиков политического), но и изменения на уровне онтического, то есть текущей политической практики. Именно поэтому эти стихи и эта вокализация опасны для Пентагона и других институций государственного насилия, и мы неизбежно будем свидетелями новых запретительных действий в отношении новых художественных практик этого типа, определяемых Батлер как практики чувствительной демократии.
Глава 5. Психология, или о хрупкости психики власти
Как возможно эмансипировать страстную привязанность в условиях психики власти?
В работах, посвященных исследованию психической жизни, в частности в книге Психика власти: теории субъекции (1997), Батлер размышляет о психике в терминах одновременно теории регуляции психического в психоанализе и в теории субъективации Мишеля Фуко, в которой подчинение выступает центральным моментом в становлении субъектом. В то же время, определяя психику не через понятие бессознательного, а через понятие психэ, Батлер стремится дистанцироваться, с одной стороны, от фрейдовского психоанализа, разделяющего, по её мнению, механизмы психической и социальной регуляции, а, с другой стороны, от концепции власти Фуко, которая, по ее мнению, не учитывает интимные механизмы подчинения и фактически редуцирует психэ к социальному. Батлер же ставит задачу проследить, как механизмы социальной регуляции работают в тандеме с механизмами психической регуляции, что представляется ей важным для того, чтобы предложить критическое объяснение психическому подчинению в терминах почти не фиксируемых и в то же время регуляторных и продуктивных эффектов власти.
С этой целью она разрабатывает специальную теорию психики власти, в которой субъективация понимается как парадоксальный эффект режима власти, в котором сами условия существования субъекта и возможность продолжения его социально признаваемого бытия требуют формирования и поддержания субъекта в подчинении. «Это конституируемое супер-эго сознание, – пишет Батлер, – не просто аналогично вооруженной власти государства над своими гражданами; государство культивирует меланхолию среди своих граждан, именно скрывая и смещая собственное идеальное господство». [241]
В то же время основной вопрос в теории психики власти Батлер – это вопрос о возможностях эмансипаторных действий субъекта в ситуации психики власти как теории подчинения.
Итак, исследуя механизмы психики власти, Батлер делает, с одной стороны, вывод о возрастании уязвимости или, в ее терминах, хрупкости субъекта в ситуации, когда власть задействует внутренние, интимные чувственные переживания субъекта (привязанность, разочарование, совесть, меланхолия и др.), которые субъект ощущает как свои личные, приватные, но которые, как она показывает, в действительности становятся формой участия субъекта в своем собственном подчинении. В этой ситуации получается, что действие, относящееся к области внутреннего опыта, которое субъект воспринимает как освободительное, не контролируемое властью, становится следующим шагом в воспроизводстве условий его подчинения.
С другой стороны, понятие психэ помогает Батлер одновременно делать вывод о хрупкости и уязвимости самой власти. И если мы признаём это последнее, то мы можем ставить, по мнению Батлер, вопрос о способности субъекта перехватывать мятежный гнев и возмущение репрессией и перенаправлять этот аффект как раз на признаваемую хрупкой власть.
В результате Батлер, анализируя совместную работу и возрастание взаимозависимости психики субъекта и закона, фиксирует онтологию двойственного в феномене психики власти, когда одновременно формируется как способность продуктов власти инкорпорировать психический процесс, так и способность Закона самому становиться полем, на котором разворачивается действие страсти. Фиксируя эффект хиазматической взаимосвязи субъекта и Закона Батлер подводит нас к вопросу: не возникает ли в ситуации хиазматической связи психического и политического, субъекта и закона ситуация функционирования власти в режиме нестабильности и уязвимости? И не производится ли одновременно с хрупкостью субъекта эффект хрупкости самого механизма психики власти, когда вмешательство страсти в Закон производит некоторый избыток психического, который Закон уже не может контролировать? Другими словами, не является ли хрупкой сама власть, имеющая психику?
Прежде чем более подробно рассмотреть действие механизмов психэ как таких, которые позволяют рассмотреть модусы функционирования власти как хрупкой и уязвимой, рассмотрим ключевое понятие концепции психики власти Батлер, с помощью которого она анализирует механизмы задействующей психику субъекта власти – понятие страстной привязанности (passionate attachment), механизм которой она демонстрирует на примере формирования чувства привязанности ребенка к родителям. У ребенка, по словам Батлер, «нет шансов не любить». [242] Привязанность ребенка к родителям – не акт свободного волеизъявления, а страстная привязанность, которая, с одной стороны, является неизбежным условием его формирования как субъекта и одновременно, с другой стороны, – составляющей психики власти как отношений зависимости, от которых ребенок не может отказаться.
Однако основным парадоксом механизма страстной привязанности, по мнению Батлер, является то, что законы психики власти как законы отношений зависимости функционируют и тогда, когда субъект осознает, что привязанность была ему навязана и стремится от нее избавиться. Например, когда повзрослевший индивид, отказывается от своей привязанности, испытывая неизбежные чувства досады, запоздалого негодования по отношению к объекту былой привязанности («Как я мог/ла любить такого/такую!»). Парадоксальным следствием этого отказа становится, согласно Батлер, самоосуждение субъекта, которое в то же время свидетельствует, что отказ от подчинения, отторжение привязанности не означает освобождения от зависимости, а, наоборот, указывает на то, что акт повиновения не только уже имел место, но что субъект ощущает возможность его возвращения.
В этом контексте Батлер исследует структуру так называемой «дезидентификации» или, как она ее называет, «отторгнутой идентификации», которую она анализирует на примере интерпелляции Луи Альтюссера.
Согласно концепции интерпелляции Альтюссера субъект производится дискурсом в ответ на так называемый «запрос власти» – как это происходит, например, в ситуации, когда полицейский окликает прохожего «эй, ты там», и кто-то из прохожих оборачивается. По мнению Батлер, этот альтюссеровский пример подтверждает тезис Фуко о дискурсивном производстве субъекта, когда субъект не существует как субъект до момента, пока его не окликнут. «Субъект, – пишет Батлер, – оборачивается или бросается к закону, и это говорит о том, что субъект живет в страстном ожидании закона».