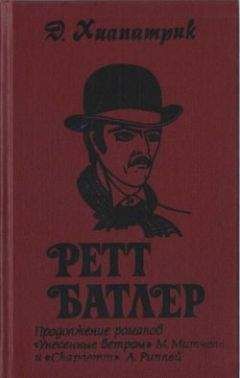этих «словах» каждое слово зна́чит для другого – как и в Гуантанамо каждое тело значит для другого (тут у Батлер аллюзия на название её книги
Тела, которые значат, [233] подчеркивающее не ситуацию традиционной символической референции, но механизм асимволической телесной
транспозиции [234]). И хотя Рансьер в этом смысле иронизирует по поводу функции поэтического как наиболее эффективной формы политической мобилизации, ссылаясь на поэтов (Рильке) и политиков-морализаторов («евангелистов»), через онтологию нехватки обеспечивающих, по его мнению, «головокружительный» парадокс «равенства, желание быть сопричастным равенству», Батлер обращает специальное внимание на такую форму современной субъективации как солидарность: ведь стихи – иначе их не запретили бы в Пентагоне – содержат иной тип солидарности, [235] когда солидарность есть солидарность
тел, связанных со
словами (в условиях обнаруживаемого Фуко стирания оппозиции материального и идеального). Именно вследствие отсутствия этой оппозиции различные тела сообщества могут испытывать страдание от слез друг друга. «Слёзы» ведь тоже возникают вне деления на материальное и идеальное, на слова и вещи. И тогда эти «слёзы» могут создавать такие типы взаимодействия в мире, которые действительно угрожают не только, с одной стороны, национальной безопасности США (то есть Пентагон был прав, запрещая писать стихи в Гуантанамо), но и, с другой, – функционированию глобальной суверенности в целом (связанной с концептом суверенного «я»).
Итак, вернемся к центральному вопросу эстетики Батлер – к вопросу о том, что является эстетической формой «стихов из Гуантанамо». Или к вопросу о форме стихов как форме чувствительной демократии.
Как уже сказано, это стихи, которые создаются безотносительно к традиционным поэтическим размерам и формам. В этой связи Батлер подчеркивает, что форма высказывания движения «Occupy Wall-Street» также является аграмматической, ведь требования «Occupy» не оформлены в виде традиционных политических «требований по списку» [236] – в отличие от того, как традиционная поэзия оформлена в строфу. Однако и требования, выдвигаемые собравшимися на площади Тахрир представителями «политик улицы», также аграмматичны. Батлер обращает внимание на то, что эти требования, во-первых, оформлены не в слова, но в действия тел, причем действия вне дихотомий приватное-публичное, закон-беззаконие и пр. Но именно тогда и возникает особый эффект Тахрира как эффект аграмматизма, но с той особой коннотацией, на которую Батлер обращает специальное внимание, – как эффект вокализации, не позволяющий состояться семиотическому измерению высказанного, иначе говоря, эффект чистого звука: звука над площадью. В этом смысле позиция Батлер в отношении поэтического совпадает с позицией Агамбена, для которого значение поэзии определяется эффектом произносимого. Однако если для Агабмена эффект поэтического представлен в так называемой «высокой» поэзии, например, в поэзии Пауля Целана, то для Батлер – это звук над площадью Тахрир как 1) невозможность тотализации и 2) невозможность его унификацифии в формы «нормативного» языка.
Однако почему звук, вокализация так важны для Батлер как выражение логики радикального равенства? Дело в том, что в звуке над площадью артикулируется нечто непривилегированное – то, что не включено в сферу искусства как сферу техне. Звук движения «Occupy» или площади Тахрир слышим, «звук звучит», но способ, которым его можно апроприировать, отсутствует – ведь для того, чтобы апроприация стала возможной, необходимо менять не только систему производства и концептуализации аффекта, но саму систему слуха. Поэтому поэзия Тахрира для Батлер приравнивается к звуку, раздающемуся над площадью – звуку «Сильмийя» (вместо привычного слова «Хубб ас-сильм», по арабски означающего «пацифизм»). [237] В этом смысле логика радикального равенства состоит также и в том, что не различает звуки 1) привычные для слуха и 2) непривычные для слуха. Отсюда батлеровское требование изменения слуха в современной философии можно назвать более политически радикальным, чем стародавнее, но неизменно возобновляющееся [238] требование изменения философской концептуализации (например, делёзовское требование пользоваться концептами, а не понятиями и т. д. и т. п.).
Таким образом, стихи из Гуантанамо или практики вокализации в движении «Occupy», или на площади Тахрир являются формой репрезентации человеческой жизни как 1) жизни субъективностей в аффекте, 2) жизни уязвимых субъективностей, 3) которые одновременно являются а) «своими собственными» и б) не «своими собственными», то есть необладающими. А это последнее качество и означает для Батлер политическую потенциальность. И действительно, если раньше Батлер считала, что «мы»-стихи в Гуантанамо не могут изменить ход войны или быть «более сильными», [239] чем милитаристская власть государства, то о практиках вокализации на площади Тахрир она пишет, что они могут и меняют государственную власть. Звук «Сильмийя» в этом смысле для Батлер – это и есть возникновение формы эстетического, способной оказывать политическое влияние. Это влияние, по мнению Батлер, проявляется также в том, что даже в условиях чрезвычайных репрессий (например, в Гуантанамо) жизнь нельзя уничтожить. Да, это жизнь в условиях насилия, которому «мы» противостоит, и хотя она часто оказывается жизнью на уровне стихов, на уровне «слёз», на уровне дыхания, однако политический смысл такой «мы»-жизни и состоит в том, что она продолжает оставаться жизнью в условиях ее тотального уничтожения.
Но если действие некрополитики, задачей которой как раз и является производство жизни в качестве не-жизни, не может уничтожить эту «мы»-жизнь как форму социально-политической жизни, то современная субъективность, в интерпретации Батлер, обретает надежду на возможность практик телесной онтологии как онтологии жизни, которые не могут быть описаны в терминах концепции жизни Агамбена, предполагающего, как считает Батлер, что во-первых, жизнь в ситуации прямого насилия оказывается сведена исключительно к «голой жизни», а значит, к отсутствию жизни и, во-вторых, что «голая жизнь» сводится лишь к функции выживания, когда выжившие («свидетели») выживают именно потому, что делают ставку на индивидуальное «я», отказываясь от «мы»-солидарности; поэтому выжившие «свидетели» Агамбена – это выжившие «любой ценой».
Понятие жизни в интерпретации Батлер на первый взгляд близко понятию выживания в условиях современной экономики капитализма как «коммунизма капитализма» в интерпретации философии постопераизма, в частности, в концепции Паоло Вирно. С точки зрения Вирно, хотя сегодня, с одной стороны, субъективность тотально задействована в процессе капиталистического «использования жизни» и хотя это прекарное «выживание» осуществляется в ситуации перманентной депрессии и тревоги, не позволяющей состояться состоянию безопасности (возможной в случае «народа», в отличие от «множества»), однако, с другой стороны, эта прекарная жизнь в ситуации «коммунизма капитала» также не позволяет состояться и традиционному репрессивному делению жизни на подлинную-неподлинную. [240] Именно поэтому идеал «коммунизма» в философии постопераизма не исключает измерение «капитала», в отличие от классических и неклассических, в частности, маоистских концепций коммунизма. «Производительность» труда в терминах постопераизма, в отличие от понимания производительности труда в традиционном марксизме, не производит ничего, кроме виртуозности исполнительской практики, которая – с точки зрения постопераистов, в отличие от