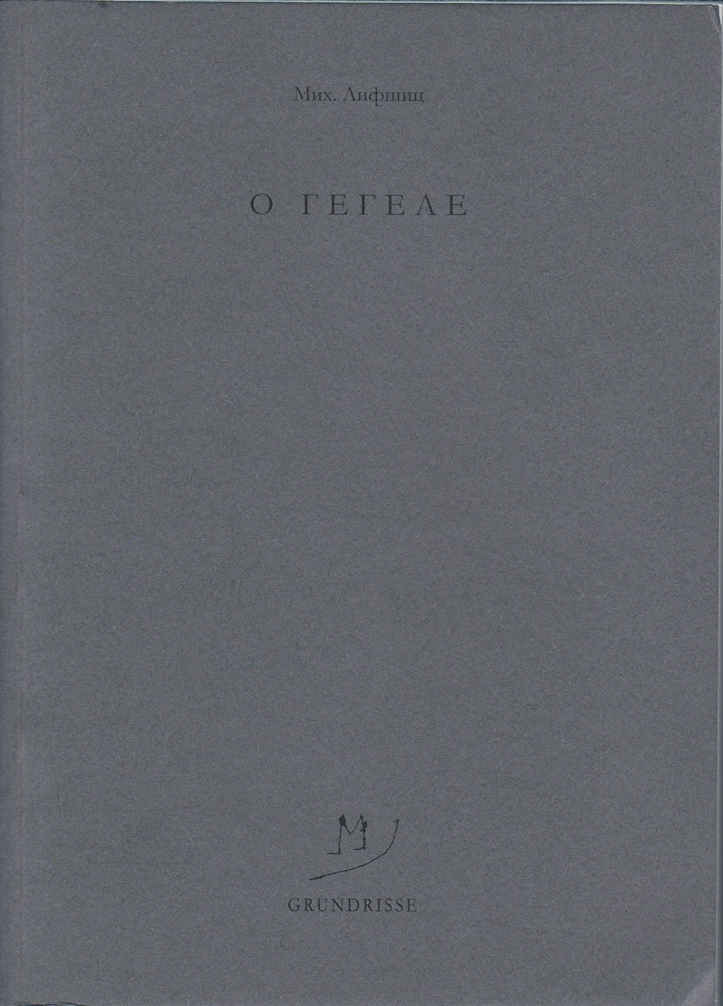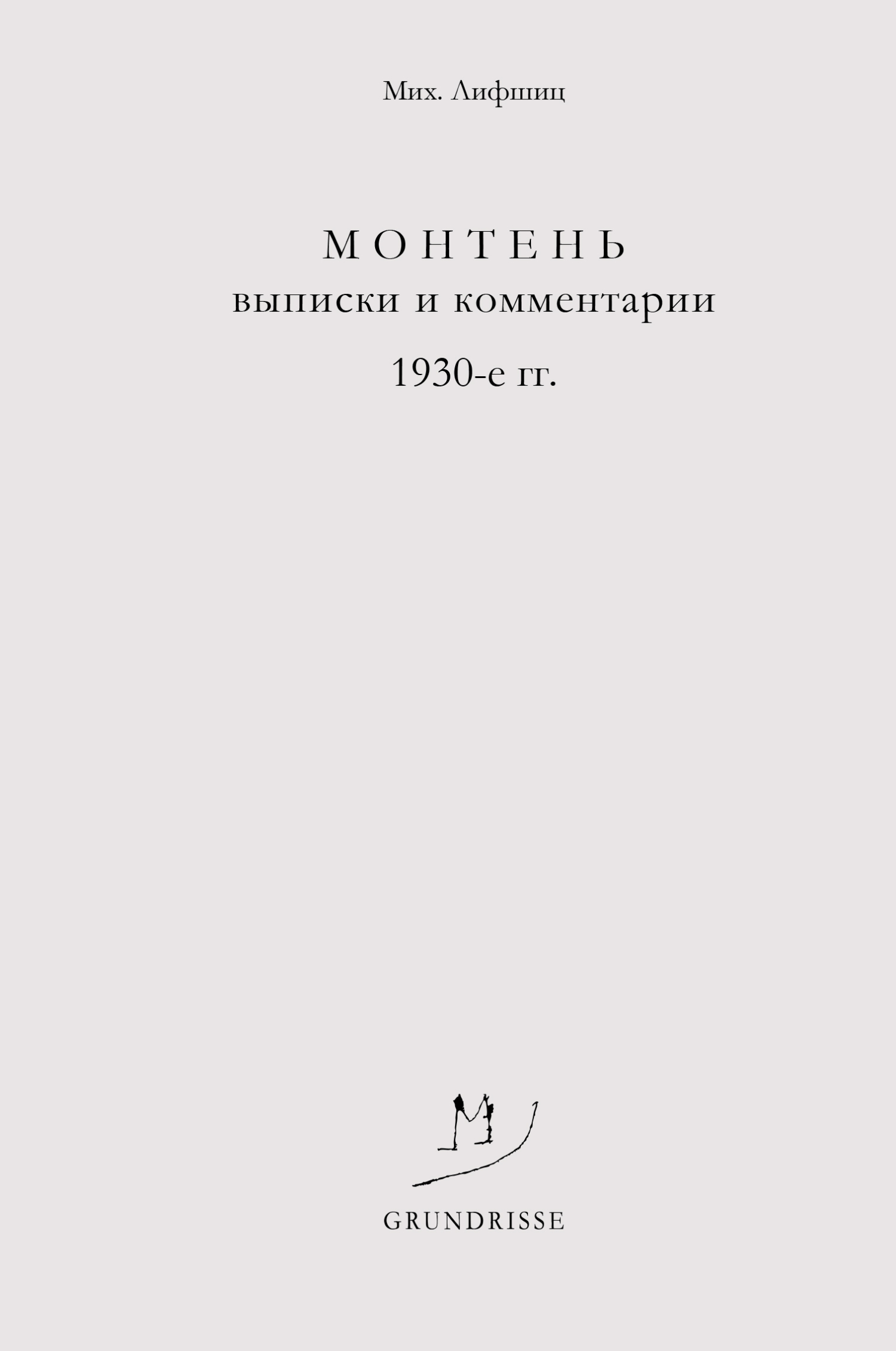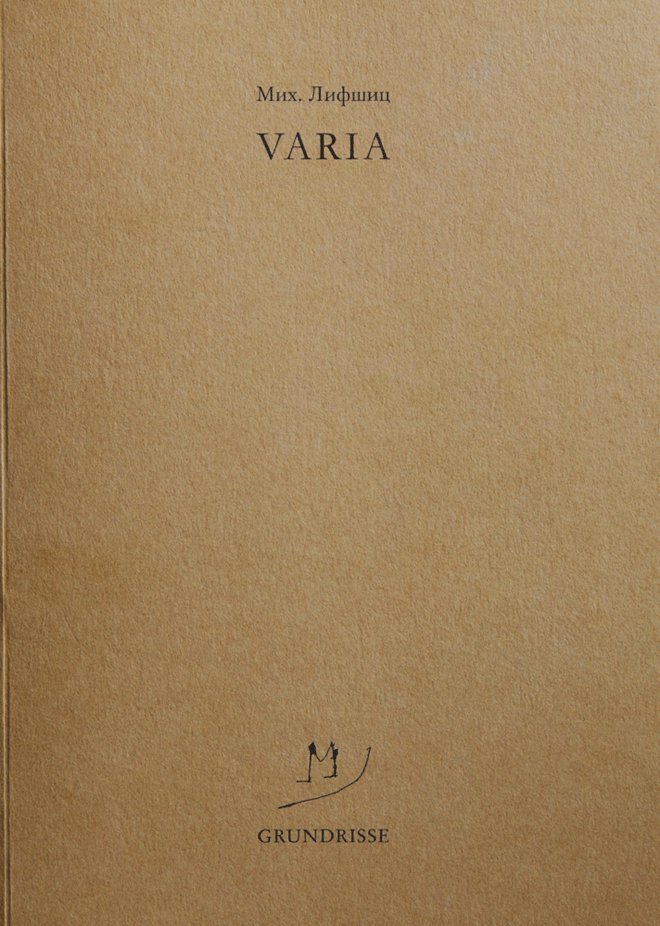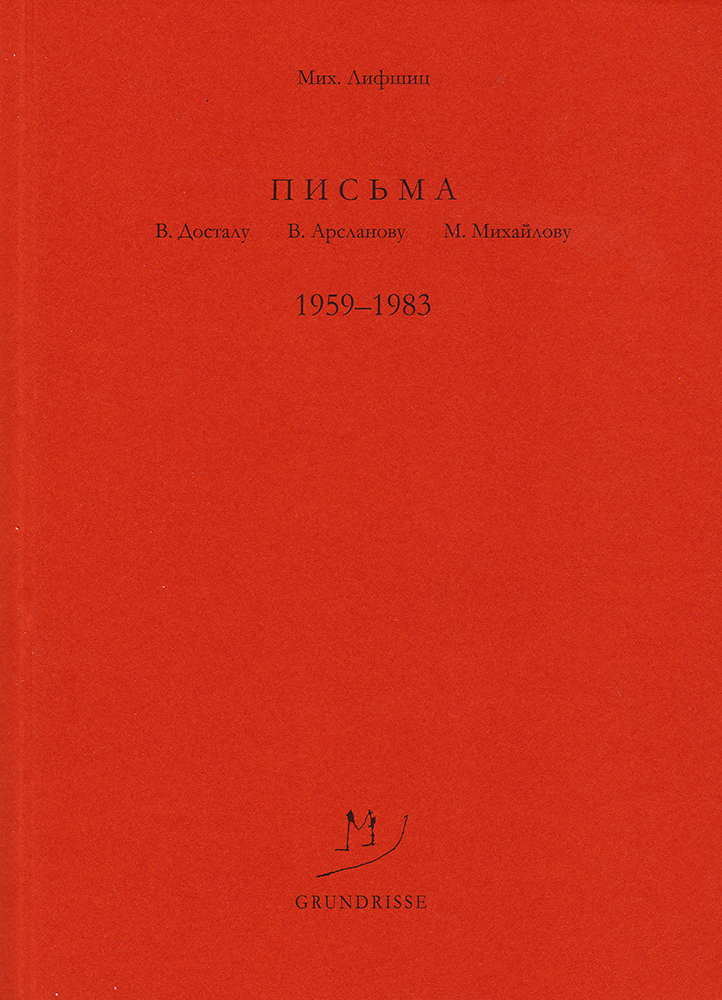том трагическом очищении, которое действительно произошло в первой половине незабываемой войны.
Вы видите таким образом, что диалектический цикл идеи – не такая уж философская тарабарщина. Мало того, к этой энантиодромии можно так или иначе привести любое затрагивающее человеческое сердце художественное произведение. Но оставим литературу, из которой можно черпать примеры, подтверждающие диалектику гегелевской идеи, без конца, и перейдём к искусству изобразительному. В средние века обычным типом изображения было распятие. Естественно, что этого требовала религия, но такое объяснение носит слишком внешний характер. Искусство изображало распятие не только по заказу церкви, но и по внутреннему побуждению художника. Тема распятия выражала идею несчастного бога, воплощение идеи как божественного величия в нечто прямо противоположное этому величию. Отсюда тема страдающей плоти, доведённая до максимума в том виде её, который немцы называют Schmerzensmann. Эстетический эффект таких изображений, там, где он есть, покоится именно на возвращении всеобщего, божественного к себе через другое, противоположное. Этой теме Гегель посвятил немало страниц своей «Философии религии» и других сочинений.
Другой пример: любимый топос художников XV века – поклонение волхвов. Роскошно одетые цари преклоняют колена перед младенцем, родившимся в старых заброшенных яслях. Когда царей заменяют простые пастухи, приветствующие рождество спасителя мира, это уже другая версия той же энантиодромии, ещё более острая, ведь здесь величие сцены раскрывается в самой низкой среде.
Мы видим таким образом, что «противоположный жест» играет громадную роль в диалектической жизни духа, или идеи, которую Гегель считал основой всего существующего. «Идея есть истина, – говорит он в “Истории философии”, – и всё истинное есть идея». Он называет также этот мотив всеобщей отрицательностью, Negativitat. Всё конечное, каким бы сильным, могущественным оно ни представлялось нашему сознанию, не может устоять против «хитрости понятия», которая подкрадывается к нему с неожиданной стороны. Ты думаешь, что создал себе друга, но чем больше растишь его, тем больше рождаешь себе врага. Ты торжествуешь, а между тем в этом торжестве заложено и твоё падение. Но и пустое всеобщее, то голое место, которое остаётся после дискредитации всего старого, изжитого, эта пустота снова обманывает нас, вызывая разочарование. Снова комплекс утраченных иллюзий, и так до тех пор, пока принцип, абстрактная декларация всеобщего не перейдёт в плоть и кровь, идея не станет снова реальностью, из которой она вышла. В так называемой Йенской записной книжке Гегеля – важном документе переходного периода его философии – есть одно интересное место. Гегель пишет о принципах: «Они всеобщи и значат немногое. Значение их кажется мне у того, кто владеет особенным. Часто они и плохи. Они суть сознание предмета, но предмет часто выше сознания». Материалистический смысл гегелевской идеи состоит именно в этом содержании самих вещей, которое в своём развитии поддерживает истину бытия. Нужно утратить утраченные иллюзии — такова была позиция Гегеля по отношению к противоречиям старого феодального и нового буржуазного мира, таков его исторический оптимизм, растущий из этой борьбы на два фронта, из принципа негативности, доведённого до отрицания самого отрицания.
Но мы взялись говорить об искусстве. Впрочем, именно в эстетической сфере вещи чаще всего кажут себя выше сознания, по известному уже нам выражению Гегеля. А принципы здесь ценны только, если они захватывают и свою противоположность – многообразие особенного, частного, реальную жизнь. История живописи есть, собственно, одиссея предметного мира, растущего в своём истинном значении за счёт абстракции всеобщего содержания. Так, на решающем повороте в Раннем, особенно Северном Возрождении, духовные завоевания искусства тесно связаны с любовным, поэтическим изображением обыкновенных вещей, какой-нибудь медной лампы, зеркала, кувшина с цветами, улицы, видимой из окна. Всё это поднимается до идеальности при полном сохранении своего реального облика, тогда как чисто религиозная возвышенность сначала слита с этой поэзией вещей, потом вообще уходит в царство условной абстракции. Разве подъём идеальности вещественного мира в зеркале искусства не является живым примером закона энантиодромии, стоящего в центре диалектического цикла идеи, согласно Гегелю?
В дальнейшем развитии живописи сложился удивительный жанр – натюрморт, развивающий именно идею мышления вещей, которые могут быть выше человеческого сознания. Эти мёртвые предметы странным образом живут, они связаны между собой какими-то отношениями, обращаются друг к другу или хранят горделивое молчание, как будто могли бы что-нибудь сказать, но воздерживаются или ведут между собой тайный разговор. Это какой-то второй человеческий мир, оживающий в отсутствии хозяина. Поскольку кисть художника даёт этим предметам жизнь, увлекательной становится даже отталкивающая задача – важно оживить не только мёртвое по природе, но именно умерщвлённое, и картины голландцев наполняются массивными тушами или битой птицей, которая мертва, но по-своему продолжает жить. Цель художника – освобождение жизни, заложенной в этой мёртвой природе. «Только живое есть идея, и только идея есть истинное», – говорит Гегель.
Его эстетика может служить противоядием от часто встречающихся в истории искусства односторонних схем. В развитии живописи, как, впрочем, и литературы Нового времени, иногда замечают только путь от идеального к реальному, от духа к материи. Возвышенные образы уходят, проза жизни, реальные черты действительности занимают поле зрения художника. Гегель, однако, часто проводит другую мысль. Он переворачивает схему обыденного мышления. Чем более реальными становятся предметы изображения и метод художника, тем больше растёт на другом, противоположном полюсе духовное содержание творчества. Личность, манера, субъект, его мастерство, его внутренняя жизнь возвышаются над изображённым предметом. У Рембрандта жизнь менее идеальна, чем в пластических образах итальянского Возрождения, но духовный элемент, бесспорно, господствует. Так и в реализме прошлого века. Даже какая-нибудь жанровая сцена из жизни бедных чиновников входит в мир искусства только благодаря циклу гегелевской идеи. Он выражается в юморе, присутствие которого свидетельствует о том, что любая, самая униженная и противоречивая ситуация ничтожного существования не может унизить всеобщие силы человечества. Они безграничны. И пусть художник покажет магию своего идеала на этом куске реального мира, а не на парадной возвышенности божеств Валгаллы. Растущий демократизм сюжетов искусства прошлого века есть именно «противоположный жест» гегелевской идеи, подъём низшего, неловкого, подавленного на эстетическую высоту. Недаром эстетика Гегеля сыграла большую роль в духовном развитии русской революционной демократии.
Проверим актуальность гегелевской идеи ещё раз на каком-нибудь чисто формальном элементе изобразительного искусства. Пусть это будет перспектива, значение которой деятельно обсуждается с начала нашего века. Как уже было сказано, гегелевскую традицию часто обвиняют в смешении искусства с наукой, поскольку эта традиция исходит из единства истины и красоты. На деле такое смешение в гораздо большей степени присуще противоположной стороне, которая рассматривает явления искусства как символы или знаки определённой субъективной позиции. Это нетрудно заметить, например, в теориях, подвергающих закон перспективы