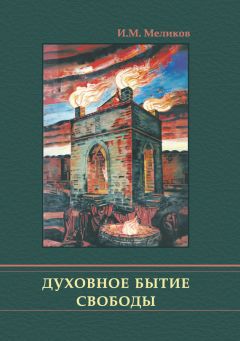ночь, пока кладбище закрыто, и весь день, пока мимо проходят посетители, — но это подошло бы им куда лучше, чем белый надгробный памятник с неподвижным изображением.
6. Я не хочу есть свои рукописи
Глава, в которой происходят кризис, два героических спасения и начало войны
Если судить по названиям, последняя незаконченная работа Гуссерля «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» не столь привлекательна, как «Тошнота». Но слово «кризис», стоящее в его основе, идеально подходит к Европе середины 1930-х годов. Фашисты Муссолини находились у власти в Италии уже более десяти лет, с 1922 года. В Советском Союзе, после смерти Ленина в 1924 году, Сталин к 1929 году взял власть, и в 1930-е годы за этим последовали голод, пытки, тюремные заключения и казни. Гитлер, одержав первые победы на выборах в 1933 году, все яснее заявлял о своих экспансионистских амбициях. В 1936 году в Испании вспыхнула гражданская война между левыми республиканцами и фашистскими националистами во главе с генералом Франко. Казалось, все складывалось так, чтобы разделить европейцев и втянуть их в новую войну. Этой перспективы очень боялись, особенно во Франции, где только в окопах Первой мировой войны погибло около 1,4 миллиона французских солдат. Сама страна была буквально изрезана войной, так как большая ее часть проходила на французской земле, и никому не хотелось, чтобы она повторилась.
Во Франции тогда было несколько ультраправых организаций — «Action française» и новое, более радикальное движение «Croix-de-Feu», или «Боевые кресты», но повальное настроение пацифизма ограничивало их влияние. Писатель Роже Мартен дю Гар выразил общее чувство, написав другу в сентябре 1936 года: «Все что угодно, только не война! Все что угодно!.. Даже фашизм в Испании! И не заставляйте меня, потому что я скажу: да… и “даже фашизм во Франции!”». Де Бовуар чувствовала то же самое и сказала Сартру: «Конечно, Франция в состоянии войны была бы хуже, чем Франция при нацистах?». Но Сартр, видевший нацистов вблизи, не согласился. Как обычно, воображение рисовало ему ужасающие подробности: «Я не хочу есть свои рукописи. Я не хочу, чтобы Низану выкалывали глаза чайной ложкой».
К 1938 году мало кто смел надеяться на передышку. В марте Гитлер аннексировал Австрию. В сентябре он обратил свое внимание на немецкоязычную Судетскую область Чехословакии, которая включала в себя родину Гуссерля — Моравию. Британский и французский лидеры Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье приняли его первоначальные требования, и у чехов не было выбора, кроме как согласиться. Гитлер воспринял это как призыв идти дальше, поэтому 22 сентября он потребовал право на полную военную оккупацию, которая фактически открыла бы двери в остальную часть Чехословакии. Последовало то, что стало известно как Мюнхенский кризис: неделя, в течение которой люди слушали радио и читали газеты, опасаясь объявления войны буквально в любой час.
Для молодого экзистенциалиста-индивидуалиста война была высшей степенью оскорбления. Она грозила смести все личные мысли и заботы, как игрушки со стола. Как писал в течение той недели в своем дневнике английский поэт-сюрреалист Дэвид Гаскойн, живший тогда в Париже и находившийся в непростом душевном состоянии: «Что так отвратительно в войне, так это то, как она сводит личность к полному ничтожеству». Слушая радио, Гаскойн представлял себе летящие по небу бомбардировщики и падающие здания. Похожие картины надвигающейся катастрофы преследовали Джорджа Оруэлла в романе «Глотнуть воздуха» [42], опубликованном в следующем году: руководитель рекламного отдела Джордж Боулинг идет по улице пригорода, представляя, как дома разбиваются о землю бомбами. Кажется, что все привычное вот-вот исчезнет; Боулинг боится, что после этого останется только нескончаемая тирания.
Сартр попытается передать настроение кризиса в романе «Отсрочка» [43], втором томе цикла «Дороги свободы», который выйдет только в 1945 году, но действие которого происходит в решающую неделю с 23 по 30 сентября 1938 года. Каждый из его героев пытается приспособиться к мысли, что их будущее может исчезнуть и ничто уже не будет прежним. Сартр переходит от мыслей одного человека к мыслям другого, используя метод потока сознания, заимствованный из романов Джона Дос Пассоса и Вирджинии Вульф. Молодой герой Борис (списанный с бывшего студента Сартра Жака-Лорана Бо) подсчитывает, как долго он сможет прослужить в армии, когда начнется война, и, следовательно, сколько омлетов сможет съесть перед смертью. В решающий момент, когда все собираются, чтобы послушать выступление Гитлера по радио, Сартр отступает со сцены, чтобы показать нам всю Францию, затем всю Германию и всю Европу. «Сто миллионов свободных умов, каждый из которых видит стены, светящийся огрызок сигары, знакомые лица, и каждый строит судьбу в меру своей ответственности».
Не все эксперименты в книге срабатывают, но Сартр передает странный дух недели, в течение которой миллионы людей пытались привыкнуть к другому образу мыслей о своей жизни — к своим проектам или заботам, как сказал бы Хайдеггер. Книга также показывает первые признаки сдвига в мышлении Сартра. В последующие годы он будет все больше задумываться о том, как человек, поглощенный масштабными историческими силами, остается свободной личностью.
Что касается самого Сартра, ответы на свои тревоги того года он нашел, прежде всего читая Хайдеггера. Сартр вступил на предгорья «Бытия и времени», хотя на более крутые склоны поднялся лишь два года спустя. Оглядываясь назад, Сартр вспоминал этот год как время, когда он жаждал «философии, которая была бы не просто созерцанием, а мудростью, героизмом, святостью». Он сравнивал этот период с Древней Грецией после смерти Александра Македонского, когда афиняне отвернулись от спокойных рассуждений аристотелевской науки в сторону более личного и «более жестокого» мышления стоиков и эпикурейцев — философов, «которые научили их жить».
Во Фрайбурге уже не стало Гуссерля, который не застал событий той осени, но его вдова Мальвина все еще жила в их прекрасном пригородном доме, храня его библиотеку и обширную коллекцию рукописей, бумаг и неопубликованных работ. Эта женщина жила одна, и в семьдесят восемь лет ее официально записали в евреи, невзирая на протестантскую веру; но при этом она оставалась неуязвимой и на данный момент справлялась с опасностью главным образом благодаря своей непреклонности.
В начале того десятилетия, когда ее муж был еще жив, но нацисты уже захватили власть, семья обсуждала возможность перевезти архив Гуссерля в Прагу, где он был бы в большей безопасности. Бывший студент Гуссерля, чешский феноменолог Ян Паточка, был готов помочь это организовать. К счастью, этого не произошло, так как сохранность работ оказалась бы под вопросом.
В начале XX века Прага успела стать своего рода