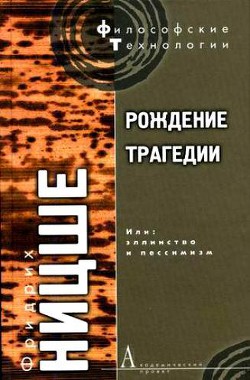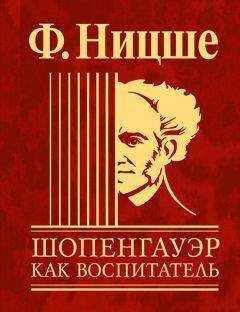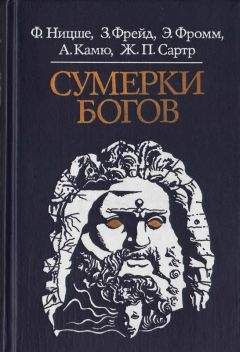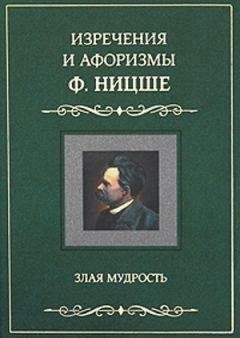народа, нам следует иметь в виду не только музыку этого народа, но с одинаковой необходимостью и его трагический миф как второго свидетеля этой способности. При близком же родстве музыки и мифа мы будем иметь право предположить равным образом и то, что с вырождением и извращением последнего связано захирение первой, – коль скоро вообще в ослаблении мифа проявляется и некоторое частичное ослабление дионисийской способности. Но по отношению и к тому и к другому взгляд на развитие немецкого духа не может оставить в нас никаких сомнений: как в опере, так и в абстрактном характере нашего лишенного мифов существования, как в искусстве, павшем до забавы, так и в жизни, руководимой понятием, нам вполне открылась столь же нехудожественная, сколь и жизневраждебная природа сократовского оптимизма. К нашему утешению, однако, проявились и признаки того, что немецкий дух, несмотря ни на что, не сокрушенный в своем дивном здоровье, глубине и дионисийской силе, подобно склонившемуся в дремоте рыцарю, покоится и грезит в не доступной никому пропасти; из нее-то и доносится до нас дионисийская песнь, давая понять нам, что этому немецкому рыцарю и теперь еще в блаженно-строгих видениях снится стародавний дионисийский миф. Пусть никто не думает, что немецкий дух навеки утратил свою мифическую родину, раз он еще так ясно понимает голоса птиц, рассказывающих ему об этой родине. Будет день, и проснется [89] он во всей утренней свежести, стряхнув свой долгий, тяжелый сон; тогда убьет он драконов, уничтожит коварных карлов и разбудит Брунгильду; и даже копье Вотана не в силах будет преградить ему путь.
Друзья мои, вы, верующие в дионисийскую музыку, вы знаете также и то, что значит для нас трагедия. В ней мы имеем трагический миф, возрожденный из музыки, – а с ним вам дана надежда на все и забвение мучительнейших скорбей! Но самая мучительная скорбь для нас всех – та долгая, лишенная всякого достоинства жизнь, которую немецкий гений, отчужденный от дома и родины, вел на службе у коварных карлов. Вы понимаете это слово – как в заключение вы поймете и надежды мои.
25
Музыка и трагический миф в одинаковой мере суть выражение дионисийской способности народа и неотделимы друг от друга. Они совместно коренятся в области искусства, лежащей по ту сторону аполлонизма; они наполняют своим светом страну, в радостных аккордах которой пленительно замирает диссонанс и рассеивается ужасающий образ мира; они играют с жалом скорби, доверяя безмерной мощи своих чар; они оправдывают этой игрой существование даже «наихудшего мира». Здесь дионисийское начало, если сопоставить его с аполлоническим, является вечной и изначальной художественной силой, вызвавшей вообще к существованию весь мир явлений: в этом мире почувствовалась необходимость в новой, просветляющей и преображающей иллюзии, задача которой была удержать в жизни этот подвижный и живой мир индивидуации. Если бы мы могли представить себе вочеловечение диссонанса – а что же иное и представляет собою человек? – то такому диссонансу для возможности жить потребовалась бы какая-нибудь дивная иллюзия, набрасывающая перед ним покров красоты на собственное его существо. В этом и лежит действительное художественное намерение Аполлона: в имени его мы объединяем все те бесчисленные иллюзии прекрасного кажущегося, которые в каждое данное мгновение делают существование вообще достойным признания и ценностью и побуждают нас пережить и ближайшее мгновение.
При этом в сознании человеческого индивида эта основа всяческого существования, это дионисийское подполье мира может и должно выступать как раз лишь настолько, насколько оно может быть затем преодолено аполлонической просветляющей и преображающей силой, так что оба этих художественных стремления принуждены, по закону вечной справедливости, развивать свои силы в строгом соотношении. Там, где дионисийские силы так неистово вздымаются, как мы это видим теперь в жизни, там уже, наверное, и Аполлон снизошел к нам, скрытый в облаке; и грядущее поколение, конечно, увидит воздействие красоты его во всей его роскоши.
А то, что это воздействие необходимо, каждый может всего вернее ощутить при посредстве интуиции, если он хоть раз, хотя бы во сне, перенесется чувством в древнеэллинское существование; бродя под высокими ионическими колоннадами, подымая взоры к горизонту, очерченному чистыми и благородными линиями, окруженный отображениями своего просветленного образа в сияющем мраморе, среди торжественно шествующих или с тонкой изящностью движущихся людей, с их гармонически звучащей речью и ритмическим языком жестов, – разве не возденет он рук к Аполлону и не воскликнет под напором этой волны прекрасного: «Блаженный народ эллинов! Как велик должен быть между вами Дионис, если делосский бог счел нужными такие чары для исцеления вас от дифирамбического безумия!» А настроенному так человеку престарелый афинянин мог бы возразить, бросив на него возвышенный взор Эсхила: «Но скажи и то, странный чужеземец: что должен был выстрадать этот народ, чтобы стать таким прекрасным! А теперь последуй за мной к трагедии и принеси со мной вместе жертву в храме обоих божеств!»
Рождение «Рождения трагедии»
«Рождение трагедии из духа музыки» – одно из ранних произведений Ф. Ницше. До этого были опубликованы лишь несколько филологических статей. Ницше «начинается» именно с этой работы. Она была написана за период с 1869-го по 1871 год (завершен текст был в феврале 1871 года). Первоначально Ницше колебался с самим названием работы: «Греческая веселость», «Опера и греческая трагедия», «Происхождение и стиль трагедии». В апреле 1871 года рукопись была передана в Лейпциг издателю Энгельману, который отказался ее печатать. В ноябре 1871 года с добавлениями книга была взята другим издателем – Э. В. Фришем и вышла в свет в начале 1872 года. В 1886 году, подготавливая второе издание «Рождения трагедии», Ницше дополнил его «Опытом самокритики», где критически оценил некоторые моменты, связанные с его охлаждением к Рихарду Вагнеру.
Отказ Энгельмана печатать «Рождение трагедии» не случаен. Ницше, до того времени работавший как «примерный ученик» филолога-классика Ричля, пытается в первой же своей книге раздвинуть горизонт классической филологии: исследование генезиса аттической трагедии меньше всего похоже на штудии классической филологии середины XIX века. Соответственно Ницше сразу же – и до последних дней своей жизни – обеспечил себе ореол скандальности и