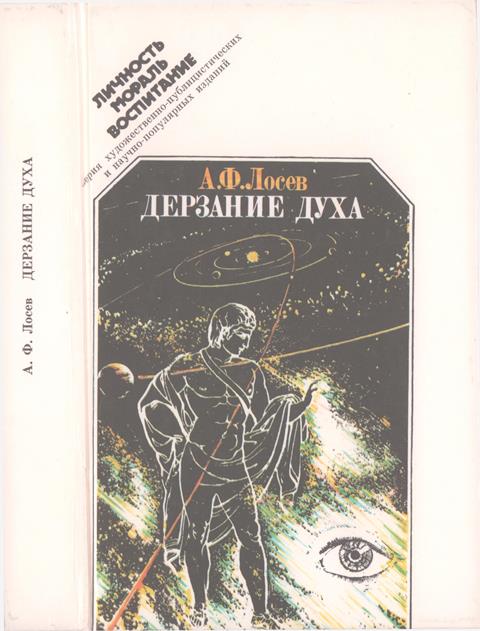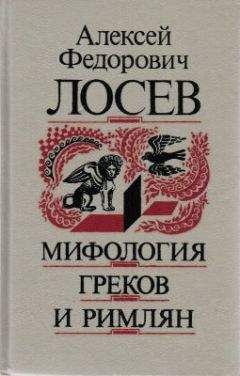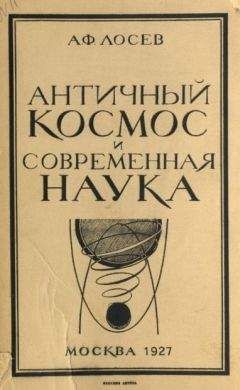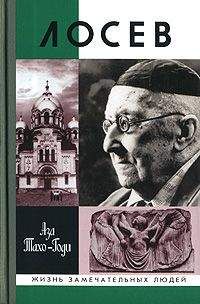panta („все“) – имя, производное от pente („пять“), а вместо „исчислять“ говорят „считать по пяти“. Пятерка же производит из самой себя квадрат площадью, равной числу букв у египтян и числу лет, которые жил Апис. А Гора они обычно называют и Мином, что значит „зримый“: ведь космос воспринимается чувствами и видим. А „Исида“ значит то же, что и Мут, и Атури, и Метуер, и так называется. Первым именем они обозначают „мать“, вторым – „украшенное жилище Гора“ [как и Платон (Tim. 52d – 53а) – „место возникновения“ и „воспринявшая“]; а третье составлено из „полноты“ и „причины“: ибо материя полна красоты (cosmoy) и связана с благим, чистым и упорядоченным (cecosmēne nōi)».
д) Всю эту весьма ясную и отчетливейшим образом проводимую у Плутарха мифологическую эстетику можно разве только в виде дополнения снабдить некоторыми примечаниями.
Прежде всего хотелось бы обратить внимание читателя на то, что материя берется у Плутарха вовсе не как принцип зла, а просто как принцип становления вообще. В Аполлоне или в Горе, например, материя эта решительно ничем не отличается от того света и добра, символами которых они являются. Злом является не материя вообще, а только недостаточно оформленная материя; причем Плутарх принимает всякие меры к тому, чтобы эта злая материя не помешала его общемонистической тенденции.
Далее, необходимо отметить, что своих богов и демонов Плутарх вовсе не хочет превратить в материю настолько, чтобы уже не было никакого различия с прежним стоицизмом. Плутарх решительно возражает против стоического пантеизма (De def. orac. 29). Да это видно и без всяких его специальных пояснений, поскольку все боги и демоны толкуются в конце концов как объединение идеи и материи. Однако, если придерживаться строгих филологических методов, у Плутарха в этом отношении все-таки приходится констатировать некоторого рода двойственность. Что боги для него первообразы, а мифы представляют собой изображение того, как первообразы функционируют в своем инобытии, это воззрение, по-видимому, является для Плутарха чем-то принципиальным и неоспоримым. Это видно, например, на толковании Аполлона, который для него не просто солнце, но и определенная категория единства и осмысления всего космоса (De Ei ар. Delph. 21; De Pyth. orac. 12; De def. orac. 42). Здесь как будто бы стоицизм исключается, и вместо него в толковании мифов водворяется платоническое учение об идеях как первообразах и об отражении их в инобытии. Тем не менее можно было бы привести множество и таких примеров, где Плутарх совершенно по-стоически толкует богов в виде физических аллегорий. Это нужно считать, безусловно, противоречием в мифологических экзегезах у Плутарха, тем более что сам он считает, например, Озириса и Исиду отнюдь не местными египетскими богами, но символами общечеловеческого значения (De Is. et Os. 66). Другими словами, в толковании мифов у Плутарха тоже остается непреодоленным противоречие между монизмом и дуализмом.
Необходимо, далее, не упускать из виду постоянную, правда геометризированную, но всегда эстетическую, оценку физических элементов. Вслед за пифагорейско-платонической традицией земля у него – куб, огонь – пирамида, вода – икосаэдр, воздух – октаэдр. Космос для него имеет форму додекаэдра, поскольку двенадцатигранник больше всего приближается к форме шара (De det. orac. 32). Пластически-эстетические основы такого понимания элементов достаточно выяснены нами в своем месте, и здесь нужно только подчеркнуть присутствие их также и в эстетике Плутарха.
Далее, Плутарх не только дает концепцию идеально упорядоченного космоса, но также рисует увлекательную картину первоначальной материи, никак не оформленной и никак не организованной, бушующей, клокочущей, неистовой и состоящей из вечных рождений и смертей, из вечных ежемгновенных катастроф. Замечательную картину этого вселенского бушующего хаоса мы находим у Плутарха в трактате «О мясоедении» (De esu carn. I 2).
Наконец, мы бы отметили, что в традиционных исследованиях о Плутархе мало подчеркивается разница между Плутархом и Платоном и прогресс Плутарха в сравнении с Платоном. С одной стороны, Плутарх по слабости применяемых им логических методов не может быть ни в какой мере сравниваем с Платоном. С другой стороны, однако, являясь представителем той эпохи, которая создавала у людей весьма обостренное субъективное самочувствие, Плутарх делает из Платона те выводы, которые сам Платон как представитель объективистски настроенной классики вовсе не делал в отчетливой форме и если делал, то только в своем последнем произведении «Законы». Именно в «Тимее» Платон настолько увлечен монистической картиной мира, что даже забыл сказать хотя бы два слова об Аиде (без которого вообще не мыслима платоновская философия и мифология). А в конце диалога сконструированный в нем космос восхваляется как наивысшая и последняя красота, между тем как в самом «Тимее» мы то и дело встречаем указания только на приближенную вероятность космологии вместо ее абсолютной необходимости и достоверности. Платон забыл свое учение о первобытной материи, которая так же вечна, как и сам демиург. И демиург, по его учению, вовсе не создает самой материи в ее субстанции, а только ее упорядочивает и организует при помощи идей и чисел. Но и в таком случае в «Тимее» остается без всякого разъяснения основной вопрос о дуализме идеального и материального мира. Если сама материя вовсе не зависит от идей, а от идей зависит только ее оформление, то это значит, что Платон в «Тимее» вовсе не преодолел метафизического дуализма. Его роскошное учение о сверхбытийном Едином остается в «Тимее» даже без всякого упоминания. Платон здесь находится под влиянием всей греческой классики, видевшей в космосе идеально организованное и прекрасное тело. Из его идеализма без применения принципов диалога «Парменид» прямо вытекает определенный метафизический дуализм. И только в конце своей жизни, в «Законах», Платон приходит к учению о двух мировых душах, что и было уже предчувствием эллинистических типов дуализма.
Всю эту дуалистическую эстетику Платона, правда, в весьма наивной и простодушной форме Плутарх и вскрывает в своей философии. Платон, владея замечательными диалектическими методами, но находясь под влиянием гармонической классики, не смог применить свою диалектику настолько, чтобы обнажить как все противоречия бытия, так и их безусловное единство. Напротив того, Плутарх, живший в гораздо более субъективистскую эпоху, с большим надрывом ощущает этот космический дуализм, но оказывается не в состоянии осилить его диалектически, поскольку методом диалектики он не владеет и скорее даже им пренебрегает.
Таким образом, эстетика Плутарха,