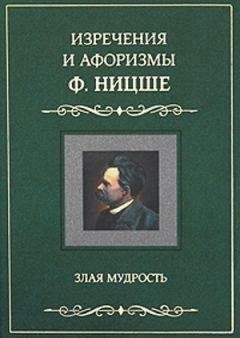действующий, следовательно —». Примерно по подобной же схеме старая атомистика подыскивала к действующей «силе» ещё тот комочек материи, где она гнездится и откуда действует, — атом; более строгие умы научились наконец обходиться без этого «остатка земного», и, может быть, когда-нибудь логики тоже приучатся обходиться без этого маленького «-ся» (в которое, испарившись, превратилось честное, старое
Я).
18
Поистине немалую привлекательность каждой данной теории составляет то, что она опровержима: именно этим влечёт она к себе более тонкие умы. Кажется, что сто раз опровергнутая теория о «свободной воле» обязана продолжением своего существования именно этой привлекательности: постоянно находится кто-нибудь, кто чувствует себя достаточно сильным, чтобы её опровергнуть.
19
Философы имеют обыкновение говорить о воле как об известнейшей в мире вещи; Шопенгауэр даже объявил, что единственно воля-де известна нам доподлинно, вполне, без всякого умаления и примеси. Но мне постоянно кажется, что и Шоненгауэр сделал в этом случае лишь то, что обыкновенно делают философы: перенял народный предрассудок и ещё усилил его. Мне кажется, что воление есть прежде всего нечто сложное, нечто имеющее единство только в качестве слова — и как раз в выражении его с помощью одного слова сказывается народный предрассудок, господствующий над всегда лишь незначительной осмотрительностью философов. Итак, будем же осмотрительнее, перестанем быть «философами» — скажем так: в каждом волении есть, во-первых, множество чувств, именно: чувство состояния, от которого мы стремимся избавиться, чувство состояния, которого мы стремимся достигнуть, чувство этого движения «от» чего-либо или «к» чему-либо, затем ещё сопутствующее мускульное чувство, возникающее в момент этого «мы хотим» благодаря некоторого рода привычке, подчас и без приведения в движение наших «рук и ног». Во-вторых, подобно тому как чувства — и именно разнородные чувства — нужно признать за ингредиент воления, так же обстоит дело и с мышлением: в каждом волевом акте есть командующая мысль; однако нечего и думать, что можно отделить эту мысль от «воления» и что тогда будто бы останется ещё воля! В-третьих, воля есть не только комплекс чувств и мышления, но прежде всего ещё и аффект — и к тому же аффект команды. То, что называется «свободой воли», есть в сущности командующий аффект по отношению к тому, который должен подчиниться: «я свободен, “он” должен повиноваться», — это сознание кроется в каждом волении так же, как и то напряжение внимания, тот прямой взгляд, фиксирующий исключительно одно, та безусловная оценка положения «сейчас нужно это и ничто другое», та внутренняя уверенность, что повиновение будет достигнуто, и всё прочее, что ещё относится к состоянию повелевающего. Человек, который волит, — приказывает чему-то в себе, что повинуется или о чём он думает, как о повинующемся. Но обратим теперь внимание на самую удивительную сторону воли, этой столь многообразной вещи, для которой у народа есть только одно слово: поскольку в данном случае мы являемся одновременно приказывающими и повинующимися и, как повинующимся, нам знакомы чувства принуждения, напора, давления, сопротивления, побуждения, возникающие обыкновенно сразу же за актом воли; поскольку, с другой стороны, мы привыкли не обращать внимания на эту двойственность, обманчиво отвлекаться от неё при помощи синтетического понятия Я, — к волению само собой пристёгивается ещё целая цепь ошибочных заключений и, следовательно, ложных оценок самой воли, — таким образом, что волящий совершенно искренне верит, будто воления достаточно для действия. Поскольку в огромном большинстве случаев воление проявляется там, где можно ожидать и воздействия повеления, стало быть, повиновения, а значит, и действия, постольку видимая сторона дела, будто тут существует необходимость действия, претворилась в чувство; словом, волящий с достаточной степенью уверенности полагает, что воля и действие каким-то образом составляют одно, — он приписывает самой воле ещё и успех, исполнение воления и наслаждается при этом приростом того чувства мощи, которое несёт с собою всяческий успех. «Свобода воли» — вот слова для этого многообразного состояния удовольствия волящего, который повелевает и в то же время сливается в одно существо с исполнителем, — который в качестве такового наслаждается совместно с ним торжеством одоления препятствий, но втайне думает, будто в сущности это сама его воля одолевает препятствия. Таким образом, волящий присоединяет к чувству удовольствия повелевающего ещё чувства удовольствия исполняющих, успешно действующих орудий, служебных «подчинённых воль» или подчинённых душ, — ведь наше тело есть только общественный строй многих душ. L’effet c’est moi [13]: тут случается то же, что в каждой благоустроенной и счастливой общине, где правящий класс отождествляет себя с общественными успехами. При всяком волении дело идёт непременно о повелевании и повиновении, как сказано, на почве общественного строя многих «душ», отчего философ должен бы считать себя вправе рассматривать воление само по себе уже под углом зрения морали, причём под моралью подразумевается именно учение об отношениях власти, при которых возникает феномен под названием «жизнь». —
20
Что отдельные философские понятия не представляют собою ничего произвольного, ничего для-самого-себя-произрастающего, а вырастают в соотношении и родстве друг с другом; что, несмотря на всю кажущуюся внезапность и произвольность их появления в истории мышления, они всё же точно так же принадлежат к известной системе, как все виды фауны к какой-либо части света, — всё это сказывается напоследок в той уверенности, с которой самые различные философы постоянно заполняют некую основополагающую схему возможных философий. {6} Под незримым ярмом они постоянно вновь пробегают по одному и тому же круговому пути, и, как бы независимо ни чувствовали они себя друг от друга со своей критической или систематической волей, нечто внутреннее ведёт их, нечто гонит их в определённом порядке друг за другом — та самая прирождённая систематичность и родство понятий. Их мышление в самом деле в гораздо меньшей степени есть открывание нового, нежели опознавание, припоминание старого, — возвращение под родной кров, в далёкую стародавнюю общую вотчину души, в которой некогда выросли эти понятия, — в этом отношении философствование есть род атавизма высшего порядка. Удивительное фамильное сходство всего индийского, греческого, германского философствования объясняется довольно просто. Именно там, где наличествует родство языков, благодаря общей философии грамматики (т. е. благодаря бессознательной власти и руководству одинаковых грамматических функций), всё неизбежно и загодя подготовлено для однородного развития и последовательности философских систем; точно так же как для некоторых иных объяснений мира путь является как бы закрытым. Очень вероятно, что философы урало-алтайских наречий (в которых хуже всего развито понятие «субъект») иначе взглянут «в глубь мира» и пойдут иными путями, нежели индогерманцы и мусульмане: {7} ярмо определённых грамматических функций