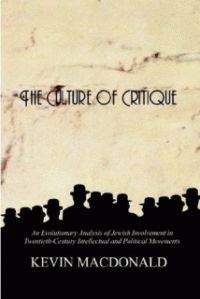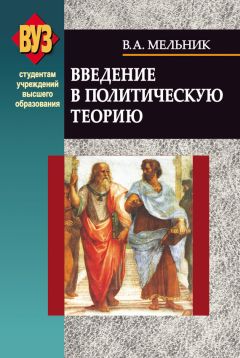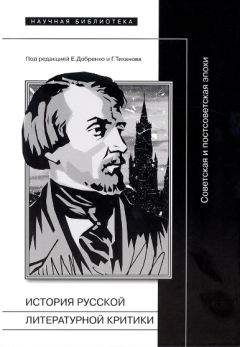Фундаментальная идея заключается в том, что европейские народы высоко уязвимы перед вторжением сильно-коллективистских, этноцентрических групп, поскольку индивидуалисты обладают меньшей защищенностью против таких групп. Конкурентное преимущество сплоченной, тесно-взаимодействующей группы очевидно, и эта тема проходит красной линией через всю мою трилогию об иудаизме. Подобный сценарий предполагает, что европейские народы более склонны к индивидуализму. Индивидуалистические культуры демонстрируют незначительную эмоциональную привязанность к своим внутренним группам («ингруппам»). Личные цели являются первостепенно-важными, и социализация акцентирует важность самодостаточности, независимости, индивидуальной ответственности, и «самоактуализации» (Триандис 1991, стр. 82). Индивидуалисты более позитивно настроены в отношении незнакомцев и членов других групп, и с большей вероятностью социализируются и демонстрируют альтруистическое поведение в отношении чужаков. Люди в инидивидуалистических культурах слабее осознают границы между внешней и внутренней группами и, таким образом, не имеют высоко-негативных настроений в отношении членов внешней группы («аутгруппы»). Они часто не соглашаются с политикой ингруппы, демонстрируют незначительную эмоциональную привязанность или лояльность к своим ингруппам, и не разделяют чувство общей судьбы с другими членами своей группы. Оппозиция ко внешним группам обнаруживается и в индивидуалистических обществах, но эта оппозиция более «рациональна» в том смысле, что тенденция полагать всех членов внешней группы виновными выражена меньше, чем в коллективистских обществах. Индивидуалисты формируют слабые привязанности ко многим группам, в то время как коллективисты характеризуются интенсивной привязанностью и идентификацией с меньшим числом ингрупп (Триандис 1990, стр. 61). Таким образом, индивидуалисты относительно хуже приспособлены к межгрупповой борьбе, столь характерной для всей истории иудаизма.
Исторически, иудаизм был гораздо более этноцентричным и коллективистским, чем типичные Западные общества. Я выдвигаю этот аргумент в «Обособленности и ее разочарованиях» (Макдональд 1998а, Глава 1) и, особенно, в «Народе, который должен жить один» (Макдональд 1994, Глава 8), где я предполагаю, что в ходе своей недавней эволюции, европейцы подвергались меньшей межгрупповой натуральной селекции, чем евреи и прочие ближне-восточные популяции. Эта гипотеза была изначально предложена Фрицем Ленцем (1931, стр. 657), предположившим, что, из-за суровой окружающей среды Ледникового периода, нордические народы эволюционировали в малых группах и развили тенденцию к социальной изоляции, а не к сплоченным группам. Эта перспектива не подразумевает, что северные европейцы характеризуются отсутствием коллективистских механизмов для межгрупповой борьбы, но она предполагает, что эти механизмы относительно менее развиты и/или требуют более высокого напряжения уровня межгруппового конфликта для своего запуска.
Этот взгляд не противоречит экологической теории. В условиях неблагоприятной экологической обстановки, адаптации преимущественно направлены на преодоление враждебных факторов природной среды, а не на межгрупповую конкуренцию (Саусвуд 1977, 1981). В такой окружающей среде селекционное давление, способствующее развитию обширных родственных сетей и высоко-коллективистских групп, будет относительно незначительным. Эволюционные концептуализации этноцентризма акцентируют его полезность для межгрупповой конкуренции, но этноцентризм совершенно не важен для борьбы с физической средой, и такая среда не способствует развитию больших групп.
Европейские группы являются частью того, что Буртон и соавторы (1996) называют Северной Евразийской и Приполярной культурной зонами. Эта культурная область происходит от охотников-собирателей, приспособленных к холодным, экологически неблагоприятным климатическим условиям. В таких климатах существует эволюционное давление на развитие моногамной семьи, с мужчиной, обеспечивающим пропитание и прочие ресурсы; подобная окружающая среда не способствует полигамии или большим группам на протяжении достаточно большого, эволюционно-значимого интервала времени. В таких условиях, стабильное поддержание отдаленных родственных связей является относительно сложным, и браки имеют тенденцию быть экзогамными (то есть межплеменными). Как обсуждается далее, все эти характеристики являются противоположностью тому, что обнаруживается среди евреев.
Исторические доказательства свидетельствуют о том, что европейцы, и особенно северо-западные европейцы, как только их интересы стали защищены сильным централизованным правительством, относительно легко расстались с сетями дальнеродственных связей и коллективистскими социальными структурами. Действительно, по всему миру наблюдается общая тенденция к ослаблению дальнеродственных социальных сетей по мере роста централизованной власти (Александер 1979; Гольдсмит Кункель 1971; Стоун 1977). Но в случае северо-западной Европы эта тенденция еще задолго до индустриальной революции породила уникальный западно-европейский стиль домашнего хозяйства — тип «простого домохозяйства». Простое домохозяйство основано на одной супружеской паре и их детях. Оно резко контрастирует с совместной семейной структурой, типичной для остальной Евразии, где хозяйство состоит из двух или более родственных семейных пар, обычно братьев со своими женами и детьми (Хайнал 1983). (Примером совместного хозяйства являются семьи патриархов, описанных в Ветхом Завете; см. Макдональд 1994, Глава 3). До индустриальной революции, простые домохозяйства Европы характеризовались уникальной системой трудоустройства молодых бессемейных людей в качестве слуг. Идти в услужение было характерно не только для детей бедных и безземельных, но и для детей крупных и успешных фермеров. В 17-м и 18-м веках, семейные люди обычно нанимали слуг в начале своего брака, до того, как их собственные дети могли выполнять эту роль, а затем, когда их дети вырастали и в домохозяйстве становилось слишком много свободных рук, родители отсылали своих детей служить в другие семьи (Стоун 1977).
Подобные глубоко-укорененные культурные традиции привели к развитию высокого уровня неродственных взаимодействий в обществе. Этот обычай также свидетельствует об относительном недостатке этноцентризма, потому что люди принимали в свой дом неродственников, в то время как в остальной Евразии люди обычно предпочитали окружение из своих биологических родственников. Это значит, что генетическое сродство было менее важным в Европе, в особенности в северных регионах Европы. Уникальной чертой простого домохозяйства был высокий процент биологически-неродных людей в семье. В отличие от остальной Евразии, преиндустриальные общества северо-западной Европы не были организованы вокруг дальнеродственных отношений, и, как легко заметить, вследствие этого они были «подготовлены» к индустриальной революции и к современному миру в общем (9).
Система простого домохозяйства является фундаментальной чертой индивидуалистской культуры. Индивидуалистская семья, будучи освобожденной от обязательств и ограничений, связанных с необходимостью поддерживать дальнеродственные связи, и от удушающего коллективизма, типичного для большей части остального мира, могла свободно преследовать свои собственные интересы. Моногамная семья, основанная на индивидуальном согласии и супружеской привязанности быстро вытеснила брак, основанный на родственных связях и стратегических рассчетах. (См. Главы 4 и 8, где обсуждается большая склонность западных европейцев к моногамии и браку, основанному на товарищеских отношениях и привязанности, а не на полигинии и коллективистских механизмах социального контроля и стратегического планирования семьи.)
Эта относительно большая склонность к формированию простого домохозяйства вполне может быть обусловлена этническими факторами. В преиндустриальную эпоху, данная система домохозяйства обнаруживалась только в Нордической Европе: система простых домохозяйств характеризовала Скандинавию (кроме Финляндии), Британские острова, Нидерланды, германо-язычные регионы и Северную Францию. Во Франции, простое домохозяйство встречалось в областях, занимаемых германскими народами, жившими к северу от «вечной линии», проходящей от Сен-Мало на побережьи Английского канала до Женевы во франкофонной Швейцарии (Ладурье 1986). Эти регионы развили крупное сельское хозяйство, способное прокормить растущие городки и города, и именно этим они и занимались вплоть до агрокультурной революции 18-го века. Оно поддерживалось большим разнообразием умелых ремесленников в городах и большим классом пахарей, которые «владели лошадьми, медной посудой, стеклянными кубками и зачастую обувью; их дети были тостощекими и широкоплечими, и обутыми в маленькие туфли. Никто из детей не имел раздутых животов рахитиков Третьего мира» (Ладурье 1986, стр. 340). Северо-восток стал центром французской индустриализации и мировой торговли.