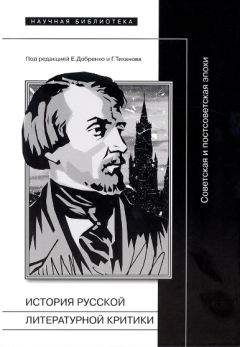История русской литературной критики:
советская и постсоветская эпохи
Вместо предисловия
Русская литературная критика: История и метадискурс
«Мы должны воспринимать прошлое как относительно единое, если мы хотим писать литературную историю; мы должны воспринимать прошлое как в высшей степени разнородное, если мы хотим, чтобы то, что мы пишем, выглядело правдоподобно», — так сформулировал Дэвид Перкинс дилемму, стоящую перед историком литературы[1].
Однако основная проблема состоит в том, что в наше время «правдоподобная история» потеряла былую притягательность. Сегодня историко-литературный проект, название которого начинается со слова «История», — предприятие по меньшей мере рискованное. Истории в наши дни пишутся либо в дидактических, либо в коммерческих, либо, что чаще всего, в коммерческо-дидактических целях. Может показаться, что с концом эпохи «Большого нарратива» собственно научный интерес к подобным проектам исчерпан. И все же насущная потребность в истории советской литературной критики, ее уникальность и то место, какое занимал этот институт в советской литературоцентричной культуре, оправдывает риск.
Чтобы уяснить сложность предмета настоящей истории, достаточно сравнить объем понятия «литературная критика» в различных европейских культурах. Так, понятие literary criticism в англо-американской традиции включает в себя академические работы, посвященные анализу произведений, теории и методов критики; журналистика же сюда не входит. А немецкая Literaturkritik подразумевает как академическую, так и журналистскую критику. Однако с конца XIX века в Германии произошло разделение между Literaturwissenschaft (наукой о литературе) как формой академической литературной критики и Tageskritik или Buchkritik, т. е. критикой, связанной с массовой печатью[2]. «Литературная критика» является здесь, как видим, куда более широким понятием, чем в русской традиции, где она ассоциируется главным образом с журналистикой (публицистикой), тогда как литературоведение (история и теория литературы) относится к совсем иному роду деятельности — академической науке. Подобное разделение обусловлено особенностями формирования институций публичной сферы и академического поля, которые начали складываться в России относительно поздно, а в советское время — еще и спецификой функционирования этих институций в условиях тотального контроля со стороны государства.
В настоящей книге понятие «литературная критика» покрывает все указанные выше области — как журнальную критику, так и литературоведение (историю и теорию литературы). Критика рассматривается здесь, прежде всего, как социально-культурная институция[3], которая превратилась в важнейший элемент становящейся в России XIX века «публичной сферы». В силу статуса литературы в России она оказалась сферой формирования публичного дискурса и (подчас единственной) сферой политической активности.
В эпоху Просвещения, — замечает Питер Хохендейл, — понятие критики невозможно отделить от институции публичной сферы. Каждое суждение предназначено для публики; коммуникация с читателем является интегральной частью системы. Через отношения с читающей публикой критическое отражение теряет свой частный характер. Критика приглашает к спору, она пытается убедить, она рождает противоречия. Она становится частью публичного обмена мнениями. С исторической точки зрения, современное понятие «литературная критика» тесно связано с ростом либеральной, буржуазной публичной сферы в начале XVIII века. Литература служила освободительному движению среднего класса в качестве инструмента для обретения самоуважения и артикуляции своих человеческих прав перед лицом абсолютистского государства и иерархического общества. Литературная дискуссия, ранее служившая лишь формой легитимации придворного общества в аристократических салонах, теперь проложила путь к политической дискуссии средних классов[4].
Ему вторит Терри Иглтон: «Современная европейская критика была рождена в борьбе с абсолютистским государством»[5].
Уже из этой исторической перспективы видно, что критика как институт тесно связана с культурной демократизацией, политической либерализацией и социальной секуляризацией — основными тенденциями Нового времени. Она является одновременно их продуктом и инструментом, служа также артикуляции идеологических позиций и эстетических платформ. Именно в этом направлении развивалась русская критика до революции, и именно этот исторический контекст показывает, насколько уникальным феноменом явилась критика советская, основанная на совершенно иных, невиданных ранее политико-эстетических основаниях и выполнявшая совершенно иные функции.
Функции и природа литературной критики, этого продукта европейского Просвещения, на Западе и в СССР оказались совершенно различными. Даже учитывая процесс «эрозии классической буржуазной публичной сферы»[6] на Западе и его влияние на институт критики в XX веке, всесторонне проанализированный в работах Терри Иглтона и Питера Хохендейла, институт критики, как он сложился в эпоху Просвещения, не имел ничего общего с социальной ситуацией, которая вообще не предполагала публичной сферы; с политической культурой, которая питала социальную атомизацию; и с политическим режимом, который последовательно поглощал любые анклавы автономности и не позволял им развиться.
Проанализировав «советскую публичную культуру» (главным образом советскую печать), Джеффри Брукс задается вопросом: как могло случиться, что высокообразованный народ, достигший таких успехов в различных направлениях как в науке, так и в культуре, был настолько одурманен пропагандой? Сомневаясь в том, что все можно списать на «ложь» и «цензуру», Брукс приходит к выводу:
Полный ответ лежит в функциях печати в деле создания стилизованной, ритуализированной и мощной публичной культуры, которая становится самодостаточной реальностью, вытесняющей другие формы публичного отражения[7].
Прежде всего, речь идет о вытеснении (не «эрозии» или «деградации», описанных Хабермасом, но о полном вытеснении!) «публичной сферы».
Согласно марксистской традиции, во многом определившей дисциплинарные параметры институциональной истории, критика относится к эстетической области идеологии, хотя и автономной. Однако, как показал Иглтон,
возникновение критики (ренессансного гуманизма, неоклассицизма, романтизма, либерального гуманизма) указывает на определенную закономерность во взаимодействии между этой областью и другими: эстетическое приобретает доминирующее место среди сопредельных сфер идеологии и, таким образом, занимает особое место в идеологической формации, взятой в целом[8].
Вступая во взаимодействие с политической, этической и религиозной сферами, «литературная эстетика» становится «больше себя самой», окрашивая эти сферы, придавая их внутренним дебатам, требованиям и традициям эстетическое измерение: «Их идеологическая действенность остается эстетической, и в этом в действительности лежит источник их власти». Но и для самой эстетики идеологический медиум остается особенно эффективным: «он графичен, непосредственен и экономичен, работает на институциональной и эмоциональной глубине, но одновременно играет на самой поверхности восприятия, переплетаясь с материалом непосредственного опыта и укореняя себя в языке и жесте»[9]. Благодаря всему этому, эстетика «натурализует себя, извлекая выгоду из свой идеологической невинности, куда легче, чем это доступно таким областям идеологии, как политика или право». Таким образом, заключает Иглтон, «история критики» является частью истории определенных идеологических формаций, каждая из которых внутренне артикулирована через набор привилегированных критических практик, в свою очередь предопределяющих практики, действующие на всех остальных уровнях, из чего следует, что «история критики есть наука об исторических детерминантах этой литературно-эстетической предопределенности»[10].
В то же время, по точному замечанию Хохендейла, «литературная критика остается верна своей публичной миссии и не может быть отделена от идеи критики идеологии и социального критицизма»[11]. Институт критики в этом смысле уникален: критика является одновременно одной из сфер идеологии и основным инструментом ее критики. Все это означает, что к критике нельзя подходить как к цеховому, сугубо внутрилитературному институту. Напротив, авторов настоящей книги объединяет понимание истории критики как метаописания литературы, сложнейшего социально-культурного института, одновременно связанного с политикой, идеологией, искусством и наукой.