В интеллектуальных кругах Европы сплетничали о его импотенции. В первом браке с Каролиной Бёмер его соперником был брат; у мадам де Сталь он долго жил в качестве гувернера ее детей и получал жалованье, а вовсе не был ее возлюбленным, хотя ему хотелось, чтобы так считали. И вот неожиданный успех у покинутой фройляйн Паулюс. Едва Жан-Поль вернулся к домашнему очагу, Софи обручилась с его врагом: наверняка назло ему. Спустя четыре недели мамзель Паулюс стала мадам Шлегель.
Если это было местью, то она удалась. Жан-Поль злится, словно это его бросили. Вдруг он обнаруживает в ней массу недостатков: она не умеет говорить, не умеет писать, ей не хватает человеколюбия. «Обручальное кольцо для обоих — погоня за блеском; он хочет в своем возрасте щеголять красивой девицей за фортепьянами, она — муженьком, прославившимся в Европе как наложник мадам де Сталь. Будь у нее побольше душевного тепла, она бы очень страдала из-за отсутствия такового у него. А так у них, возможно, и получится сносный брак, полный взаимной суетливой похвальбы… Между тем книги мои он доводит до нее… лишая их и мысли и чувства».
Что касается брака, пророчество не оправдалось. Он не оказался даже сносным: хотя он официально и был заключен, но не был осуществлен. Письмо Жан-Поля (Фоссу) написано в день бракосочетания; когда же оно приходит в Гейдельберг, супруг уже уехал в Бонн, а жена осталась в Гейдельберге и требует развода. Сплетня, по-видимому, была обоснованной. Во всяком случае, Гейне в «Романтической школе» обстоятельно и недвусмысленно рассказывает историю этого лишь символически заключенного брака, а Жан-Поль так комментирует ее: Софи «теперь ни девица, ни супруга, ни вдова, ни любящая, ни даже возлюбленная», и брак «не принес ей ничего нового, кроме кори — эта болезнь как бы символ ее мужа». И, намекая на импотенцию Шлегеля и как поэта, он добавляет: «В умении приносить несчастье он впервые проявил себя отважным поэтом».
Через год Жан-Поль снова встретился с матерью и дочерью Паулюс в Штутгарте, и никакое чувство, что угрожало бы его супружеской жизни, в нем не шевельнулось. Кроме звания почетного доктора, от Гейдельберга осталась дружба с Генрихом Фоссом, которая вскоре стала столь тесной, что уже в 1818 году Жан-Поль в присутствии старых друзей и сына назначил его «неограниченным распорядителем, хранителем и издателем» своего литературного наследия (что, впрочем, не имело в дальнейшем значения, ибо Фосс умер раньше него).
«Утрату подруги пережить легче, чем потерю друга».
Жан-Поль выступал как дилетант во многих областях, но в философии, эстетике и теологии столь успешно, что история каждой из этих наук должна в большей или меньшей степени с ним считаться. Серьезно вникать в проблемы остальных наук, занимавших его, он и не старался, за одним исключением: языкознания. Он углубился в него и — потерпел неудачу. Рвение, с каким он пытался улучшить немецкий язык, показалось бы смешным, если б забыть, сколько времени пропало для занятий более важных.
В юности он изобрел для домашнего употребления собственное правописание — не столько ради улучшения, сколько просто оригинальничая, это было безобидно. Постепенно это увлечение слабело, пока наконец полностью не погасло. Но в 1819 году он написал следующее: «Вероятно, к тем немногим великим открытиям, что сделаны в этом еще молодом столетии, принадлежит и мое собственное: установление твердого правила, согласно которому различные определители соединяются с основным компонентом сложного слова и образуют различные классы двусоставных слов. При конструировании двусоставного слова каждый познает пользу неосознанно применяемого правила; ибо логика — это чутье языка».
В поисках языковой логики великий мастер языка в последние годы жизни с бесподобным отсутствием чутья вцепляется в одну из побочных проблем улучшения языка. Подобно Дон-Кихоту, прародителю творения его старости, он ведет безнадежную борьбу против соединительного «s» в сложных словах (называемых им двусоставными) и пишет об этом целую книгу: «О немецких двусоставных словах; грамматическое исследование из двенадцати старых писем и двенадцати новых постскриптумов».
К сожалению, сам Жан-Поль руководствуется результатами своих исследований. Если раскрыть «Зибенкез», которого он в это время перерабатывает, можно прийти в ужас от того, сколько времени и сил он тратит, чтобы затруднить чтение этого прекрасного романа, превращая каждого Ratsherrn[29] в Ratherrn, каждое Hilfsmittel [30]в Hilfmittel. В новом предисловии он сам себя хвалит, называя это обогащением языка, и беспокоится лишь о том, сумеют ли потомки по достоинству оценить «необычайно утомительную работу; мысль, что они могут ее проклясть, ему не приходит в голову. Гёте, который очень ценил „Левану“ и в заметках и примечаниях к „Западно-восточному дивану“ одобрительно отозвался о языковом искусстве Жан-Поля, высказался (по словам Голтея) резко: „Он бился над пустяками и занимался буквоедством, потому что у него иссякла фантазия и ничего значительного больше не приходило в голову. Отсюда его вечное раздражение по поводу буквы „s“ родительного падежа“.
То было время рождения германистики. Занятие немецким языком принадлежит к идеологическому осознанию себя нацией. Жан-Поль действовал вполне в духе времени и, конечно, опять как дилетант, на сей раз весьма забавный. Он отталкивается не от великих знатоков языка, таких, как Якоб Гримм, а от одного из шарлатанов, плывущих по течению, от некоего Христиана Генриха Вольке, чьими благоглупостями он увлекается, хотя большей частью и не приемлет их. Этот придурок, педагог по профессии, работавший в Дессау в Базедовском благотворительном заведении, ставший в Петербурге гофратом и теперь живущий без определенных занятий в Лейпциге, Дрездене, а затем в Берлине, хочет сделать из „литературного немецкого наречия“ „всеобщий немецкий язык“, и к тысячам его рационализаторских предложений относится и упразднение соединительного „s“ в „сословах“. Еще в предисловии к первому тому „Осенней Блюмины“ (1810) Жан-Поль вспоминает „почтенного широко образованного языковеда“ — именно ему он обязан туманным заголовком своего сочинения: Блюмина есть не что иное, как греческая богиня Флора в немецком одеянии, в которое „почтенный благородный германец“ Вольке хочет облачить всю классическую мифологию; Помона становится Фруктиной, Дриада — Лесиной, Венера — Очаровиной, Вулкан — Огневаном, Зевс — Громованом.
Но Жан-Поля интересует не столько стоящий на страже немецкого языка пуризм Вольке. Ему импонирует, что этот человек хочет изгнать из языка алогичность и беспорядочность, что он пишет, например, prachtig и machtig без умлаута — потому что так же пишется rosig и artig [31]. Он хотел бы поступать так же, но боится насмешек читателей. Хваля и поддерживая Вольке, сам он „всеобщим языком“ не пользуется. Когда в 1812 году появляется главное произведение Вольке, Жан-Поль становится одним из его „покровителей“.
Произведение это называется „Руководство ко всеобщему немецкому языку или к распознанию и исправлению нескольких (по меньшей мере двадцати) тысяч языковых ошибок в литературном немецком наречии; вместе со способами избежать и уберечься от многочисленных орфографических ошибок, ежегодно доставляющих пишущим на немецком языке 10 000 лет излишней работы или расходов в 500 000“, содержит почти пятьсот страниц и являет собой трудное, но забавное чтение. Так, например, языковая логика Вольке обнаружила, что артистка или портниха — это только жена артиста или портного, а если она и сама играет или шьет, то должна называться „игрицей“ или „шитницей“.
Он очистил орфографию от всего излишнего, грамматику — от всего чужеродного, но его „общеязычный“ текст нельзя читать без удивления.
Самое большое открытие Вольке заключено в утверждении, будто Адам и Ева говорили в раю по-немецки, правда, то было одно только слово — „чудесно“, но из него вырос не только немецкий, а и все другие языки на свете. В занимающей семьдесят страниц дидактической поэме, которая завершает его научный труд, Вольке так объясняет это историческое событие: „Дитя неба“, то есть разум, наделило духом языка „немецких предков“, то есть германцев — „верных, славных“, которые потом столь героически противостояли „римлянам“, оно избрало их, чтобы именно они открыли первый „смысловой язык“.
Когда в 1811 году гофрат в письме настаивал, чтобы писатель подал пример, вводя язык, освобожденный им от всех неправильностей, Жан-Поль решительно отказался: „Ничто на земле не подвластно неизменным правилам… Мы отказываемся от старых государственных форм, философии, правителей и 10 000 вещей; пусть же настанет черед и для старых языковых соразмерностей“. Его занимает лишь создание составных слов, и это не случайно, поскольку из-за нелюбви к прилагательным он больше других пользуется именно составными словами, частично сам создает их, нередко испытывая при этом неуверенность. Его беспокоит господствующая здесь непоследовательность (в одних случаях первое слово берется в родительном падеже с непременным „s“ в конце, в других, очень близких по значению, без него). Он вмешивается в спор, который публично ведет Вольке с серьезными филологами, годами собирает составные слова, пытается классифицировать их, пишет статьи об этом и, наконец, делает из них книгу, вынуждая потом Якоба Гримма выступить против всей этой нелепицы.
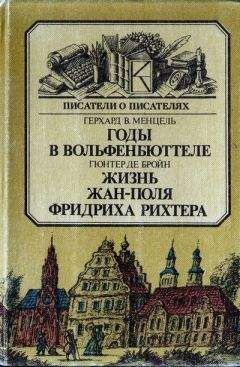
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)



