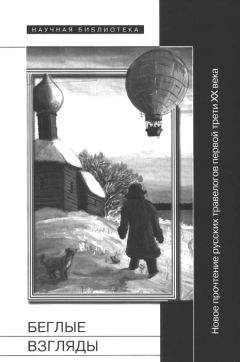Беглые взгляды присущи Розанову прежде всего во время передвижения по метрополии, от квартиры до редакции, оттуда в Египетский отдел Эрмитажа, затем обратно домой. С еще большей отчетливостью они сопровождают его путешествия, даже внутри России, которые также устремлены подальше от нелюбимого Петербурга как административного центра. При этом он, собственно говоря, не был «перелетной птицей», скорее гнездарем: наряду с двумя путешествиями за границу, приведшими его в Италию, Австрию, Швейцарию и Германию, в течение двадцати лет с 1898 по 1917 год он все же совершил 15 путешествий в пределах России[176]. Будучи постоянным сотрудником самой солидной тогдашней русской газеты «Новое время», Розанов ежегодно, не считая нескольких корреспондентских командировок, едва ли чаще одного раза отправлялся в путешествие!
А. Чехов, который был только на три года моложе Розанова, в письме от 20 мая 1897 года к своему издателю и владельцу театра А. Суворину высказывал противоположное отношение к путешествию — отвращение к нахождению в одном и том же месте:
Куда наконец Вы решили уехать? И когда? Сидение на одном месте до такой степени надоело мне, и так (выражаюсь по-южному) набрыдло, что я охотно бы проводил Вас до самого Вержболова, если Вы поедете за границу и найдете лишнее место в купе. […] Хочется двигаться, ужасно хочется[177].
В противоположность Чехову, Розанов отклонил максиму М. Клаудиса: «Тот, кто путешествует, может многое рассказать»[178]. В то время как А. Чехов в 1890 году отправился в путешествие через всю Сибирь на остров Сахалин (откуда привез путевой отчет, предвосхитивший книгу А. Солженицына «Архипелаг Гулаг»), волжанин Розанов ни разу не добрался даже до Урала. Он не был рассказчиком; хронотоп приключения в основе своей был чужд ему. Даже экзотические пейзажи едва ли увлекали его, и по Египту, открытому им раю, он никогда не странствовал. По типу своему домашний, семейный человек, он отправлялся в путешествие почти исключительно по причине отпуска, лечения, по заданию своей газеты или же если этого требовали семейные обстоятельства. В связи с ранней смертью родителей Розанов был вынужден не по своей воле провести детство и юность в четырех волжских городах: в Ветлуге (1854–1861), в Костроме (1861–1870), в Симбирске (1870–1872) и в Нижнем Новгороде (1872–1878). За обучением в Москве (1878–1882) последовали годы учения в провинциальных городах Брянске (1882–1887), Ельце (1887–1891) и Белом (1891–1893), пока он, тридцати семи лет от роду, не осел на четырнадцать лет в нелюбимой Петербургской метрополии, которую считал «финской» (С. 11). В конце лета 1917 года, когда ему уже исполнился шестьдесят один год, Розанов вместе со своей семьей бежал из Петербурга от наступающих отрядов альянса, поближе к монастырскому поселку Сергиев Посад под Москвой, где, измученный голодом и нуждой, он не прожил и двух лет.
Розанов оставил интересные свидетельства не только о двух путешествиях за границу, но и о некоторых поездках по России. В них предстает путешественник, который удостаивает своим коротким взглядом более людей и их культуру, регионы, по которым путешествует, нежели прелесть и экзотику пейзажей. Путешественник Розанова, разумеется, не фланер в смысле В. Беньямина, однако его странствие не направлено к какой-либо цели — скорее, он стремится к возможности проехать по обжитым, как правило, местностям, чтобы узнать об особенностях и характере их обитателей. Его взгляд носит антропологический и этнографический характер.
III. Путешествие как нисхождение и децентрализация
Только в исключительных случаях Розанов описывает природу, хотя, являясь сыном лесника, он не мог быть к ней безразличен. Если он вообще изображает ландшафт, то непременно во время движения по нему. В трех показательных примерах таких «ландшафтных» путешествий этот хронотоп регулярно приобретает аксиологическое направление спуска, нисхождения. С высоты романтически-возвышенного, будь то вершина горы или магический исток реки, путь лежит в низину человеческой повседневности. Это спуск с горы Казбек, путешествие на обозе по крымским горам или на пароходе вниз по Волге. Причем Розанов не менее тщательно планировал свои путешествия с точки зрения их текстовой подачи, чем это делал Н. Карамзин сто лет назад перед поездкой в Европу[179].
Спуску на повозке с грузинской горы Казбек Розанов (С. 41) явно придает значение имаготипа будущего, прозрачно намекая на перевернутость гоголевского образа России в виде летящей вверх тройки. Взлету России в небо он противопоставляет спуск в низины Азии. Перевернутость мира явствует из того обстоятельства, что кавказский Терек течет иначе, чем русские реки: не внизу, а наверху:
Это — спуск в Азию; змеиная нить шоссе перед станцией Млеты. Вы на вершине Кавказа, т. е. сейчас перед вами вдруг открывается воздушная перспектива вниз — та именно главная красота гор, которой недоставало ранее при вечных поворотах Терской долины. И внизу, на головокружительной высоте, на дне страшной продольной пропасти, бежит пенистая лента Арагвы. Арагва — чиста, в отличие от большинства горных рек, без сомнения, по причине кремнистого русла (С. 40 и след.).
Однако спуск воспринимается как длящееся, долгое счастье, как фаустовское счастливое мгновение, явная эмблема вневременной Азии. К этому длительному ощущению счастья добавляется примесь футуризма[180]: заданная большая скорость движения и вместе с тем крутой спуск, непосредственная близость колес экипажа:
Быстрое движение экипажа; что-то веселое, какое-то счастье, но которое растягивается на часы; бездна воздуха; стремнины сзади, все возрастающие по мере того, как бегут минуты, — а главное, главное: стремнина вниз, сейчас же обок с колесами экипажа, на тысячи футов (С. 41).
Ощущение счастья от головокружительного спуска придает движению характер воздушного полета — формы путешествия, которая в этот период еще колеблется между утопией Жюля Верна и ранними попытками описания передвижения по воздуху. В то время как начиная с 1909 года соответствующие путевые записки прославляют освобождающее движение в высоту и в будущее[181], путешественник Розанова превозносит хронотоп «спуска» в прошлое. В смысле пространственно-временной конфигурации передовая позиция здесь принадлежит спирали, которая отличается от гегелевской «стрелы времени» и соединяет циклическую временную фигуру с вертикальным пространственным движением[182]. Отсутствие строгости, жесткости, суровости как имаготипа европейского начала при помощи риторической фигуры литоты утверждает «кроткое»[183], образный тип азиатского. При этом Розанов не принимает близко к сердцу жестокость укоренившихся и в России азиатских стереотипов (например, татаро-монгольских). Он вписывает своеобразный путевой отчет в текст конфронтации Азии и Европы:
Все это сообщает езде характер воздушного движения, как бы вы чертите по каменной стене и соскальзываете почти по спирали книзу. Ничего сурового; да и не нужно сурового; вы так радостно приветствуете Азию; новая часть света, наконец — не Европа (С. 41).
Но затем подчеркивается различие между животным миром и транспортными средствами, которое отмечает границу между Азией и Европой. Верблюд — экзотическое животное и одновременно порабощенная природа. Однако все предстает как новый свет, не как новый свет для Западной Европы — на Западе, но для Восточной Европы: на Востоке![184]
Граница между природой и культурой, что характерно для манеры Розанова, кажется путешественнику неопределенной. Он не может определить: верблюд — дикое существо или убежавшее домашнее животное? Бесцельное передвижение животного, по кантовской формуле «в себе и для себя», становится здесь символом бега[185]. Он заранее обнаруживает на горизонте розановской эстетизации познания само-целесообразность, авто-поэзию искусства авангарда. Прекрасный бег — мотив для этического импульса, как если бы Розанов захотел дать девиз формальной школе и Пражскому структурализму:
Уже завтра, наутре, я увидел верблюда, бегущего по дороге — так, an und für sich, «в себе и для себя» бегущего. Боже, я выпустил бы на свободу всех запряженных верблюдов, по крайней мере всех из Зоологического сада: так этот один был хорош. Кондуктор ослабил впечатление, сказав, что это станционный, сбежавший верблюд; но он бежал легко, как-то выгибая ноги, то вытягивая, то сокращая шею — и эти странные горбы! Встречные арбы тянулись уже буйволами: сжатая голова, прижатые к ней рога — книзу, а не вбок, изогнутые. Все — новое: «новый свет», по крайней мере для природного костромича и вечного северянина (С. 41).