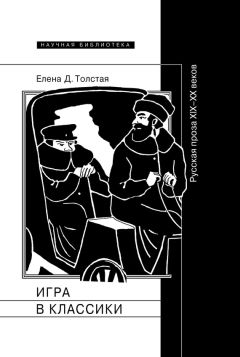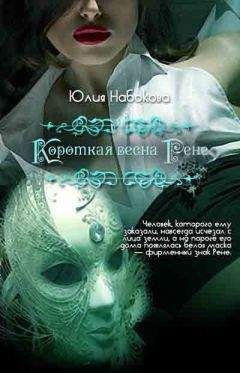Ознакомительная версия.
Аполлон Григорьев считал, что общественную задачу в «Накануне» Тургенев так и не решил. Зато задача «общепсихологическая и поэтическая» выполнена им «блистательным образом»[67], – тут он особенно отметил венецианский эпизод.
5. «Стоит только турок вытурить»: изысканность русской речи в «Накануне»
Недооценка Тургенева. В 1920-х в основополагающих работах Л. В. Пумпянского закреплена роль Тургенева как родоначальника русской прозы, открывшего ее западным влияниям, как Пушкин – русскую поэзию; но вскоре и сам Пумпянский, и западные влияния стали неупоминаемы в русском литературоведении. На протяжении большей части советской эпохи оставались невостребованными и непереизданными многие работы русских исследователей 1910-х годов, которые и сейчас читаются с интересом, – например, статья Овсянико-Куликовского о религиозной теме в «Дворянском гнезде». С конца 1950-х годов, когда начала восстанавливаться традиция объективного исследования, создавались работы нового поколения исследователей Тургенева, от А. Г. Цейтлина до А. И. Батюто, В. М. Марковича, Р. И. Кафановой и др. Важным вкладом в новое прочтение Тургенева явилась глубокая книга В. Н. Топорова «Странный Тургенев» (1990). Ряд тем в ней дан с опорой на замечательную тургеневскую биографию Бориса Зайцева, написанную в Париже, – ведь и эмигрантские работы попали в поле зрения русского читателя с большим опозданием.
В XIX веке никто не сомневался в первенстве Тургенева в русской прозе. В конце века, напротив, именно Тургенев казался Чехову главным «общим местом», которое надлежало спародировать, осмеять, вывести на чистую воду и так «вывести из собственной системы». Прочтя и оценив Толстого и Достоевского с помощью критиков Серебряного века, новый читатель заодно усвоил и идею, что по сравнению с этими гигантами Тургенев неглубок, слишком «гладок» и «сладок»: Шестов упрекал Тургенева в недостаточной религиозности, Гершензон – в недостатке русского национального чувства, Анненский – в усталости, безжизненности, бегстве от любви. Только Мережковский считал его писателем более свободным, чем Толстой и Достоевский.
Топоров отмечал, что «ни один из классиков русской литературы XIX в. так много не потерял в мнении читателя века нынешнего, как Тургенев»[68]. Тургеневское повествование в основном воспринималось как безыскусно «монологическое», в противовес «диалогу» Достоевского – хотя сам М. М. Бахтин признавал язык тургеневских романов «далеким от поэтического абсолютизма»[69]. Правда, это и не «двуголосое слово» Бахтина: «Преломлять свои интонации в чужом слове Тургенев не любил и не умел. Двуголосое слово ему плохо удавалось… Поэтому он избирал рассказчика из своего социального круга»[70].
Многоголосие у Тургенева. Кажется, однако, что все сложнее. Действительно, писатель писал одноголосные повествования – это повести и рассказы 1840-х. Но уже в первом романе, «Рудин», есть обогащающие стилевой ассортимент столкновения речевых масок, где полюса – это немецкий высокий штиль Рудина и снижающий пафос Пигасова – женоненавистника, завистника интеллекта и врага фразы. Между ними располагаются Волынцев и Лежнев, вначале тоже антагонисты Рудина, и последовательный поклонник его Басистов. Основная тема романа – это толкования главного персонажа, от сатирических ранних и злоязычных современных свидетельств и до подводящих уважительный итог посмертных переоценок. В следующем романе, «Дворянское гнездо», стилевые столкновения происходят по линиям «Марфа Тимофеевна – Паншин» и «Лемм – Паншин», причем и за старомодной, прямой и откровенной теткой Лизы, и за ревнителем непреходящих нравственных и эстетических ценностей Леммом стоит немногословная «прекрасная душа» – Лиза и ее невербальные, но верные предпочтения. С Паншиным, наоборот, впоследствии оказывается в стачке жена героя Варвара – образец безнравственности и дурновкусия. Другая линия стилевого спора противопоставляет вернувшегося в Россию из Парижа Лаврецкого (последние годы николаевского царствования он провел там, «уча историю», похоже, de visu и, очевидно, в компании других политэмигрантов) – и застоявшийся быт его поместья, который застыл чуть ли не в XVIII веке. Врезка-инкрустация в начале «Дворянского гнезда» – история трех дворянских поколений рода Лаврецких – создает элегическую историософскую перспективу, в которой прошлое сводится в один континуум с современностью и нравственный выбор персонажей проецируется на отыгранные предками варианты.
Главным оператором перехода к более сложным идейным диалогам «Отцов и детей» и далее, к мощному разноязычию «Дыма» – целой ярмарки осмеиваемых идеологий, – на наш взгляд, послужил роман «Накануне», писавшийся в самом конце 1850-х. В этом романе перед нами, вдобавок к почти нейтрально-лояльному «всезнающему рассказчику», налицо как бы второй источник нарратива, умница и пересмешник, скульптор Шубин. Вместо агрессивного малокультурного антагониста Пигасова или носителя ложной, поверхностной культуры Паншина в роли альтернативного повествователя здесь выступает персонаж интеллигентный, культурно солидарный с рассказчиком, но гораздо более субъективный и ядовитый на язык – наподобие Лежнева, только моложе, острее и веселее. В раннем варианте весь роман вообще излагался от лица Шубина, имея вид его дневника: и в окончательном варианте большая часть «русских» глав «Накануне» рассказывается с помощью переклички авторского и шубинского слова: одни и те же темы то лирически возвышаются в элегической речи рассказчика, то снижаются в остроумной и гибкой болтовне персонажа. Шубину с его интимным и парадоксальным взглядом на вещи удивительно удачно подошла роль «резонера» романа, что позволило внедрить неформальность, неожиданность, импровизацию и, что немаловажно, хулу как принципы рассказа.
Миры, которые сталкиваются в «Накануне», страшно далеки друг от друга. Здесь сюжет составляет романтический материал, история женской влюбленности, описанная, однако, с «реалистической» психологической подробностью. В сюжет вплетены две главные фигуры, которые должны нести современные «тенденции» – идею национального освобождения и идею женской эмансипации. Обе эти фигуры, описанные так же «реалистично» и озабоченные идейной «злобой дня», тем не менее наводят на отчетливые мифопоэтические ассоциации и подчиняются законам явно романтическим – законам «рока» и «возмездия». Драма эта разыгрывается на мелкобытовом семейном и, шире, московском фоне, изображенном сатирически в приемах натурализма, часто с прямыми отсылками к гоголевским текстам. Отсюда действие переносится в Венецию, на международный исторический простор, данный и в фактологии, и в пародии (монолог Лупоярова). Венецианский эпизод мобилизует все изобразительные силы автора, создавшего удивительный сплав: здесь и романтизм, и реалистическое письмо, а временами – импрессионизм.
Роман синтезирует все эти далекие друг от друга художественные миры, растворяя их в роскошном многообразии русской речи. Можно сказать, что именно в изображении русской интеллигентной речевой стихии автор достигает реализма в его высшем понимании – то есть множественности представлений о мире, явленных в слове, – социальной и культурной многоголосицы, воспетой Бахтиным[71]. Тут и шубинские программные разговоры об искусстве, изысканно-просторечные и даже профессионально-жаргонные, тут и вечные перебранки с Берсеневым, порой только с виду шутливые, как часто бывает между друзьями (или «друзьями»), а на деле довольно агрессивные, и злое сплетничанье; тут и напряженная риторика Инсарова, и шокирующие, «экстремистские» реплики Елены, и фальшивые словоизлияния Стахова-отца, и редкие, да меткие, пронзительно правдивые фразы матери Елены, и косноязычие Увара Ивановича, и язык жестов. И особенно любимые писателем иррациональные речевые ситуации – бред, недосказанность, а часто и откровенная заумь.
Не «Дворянское гнездо», отразившее возвращение писателя в Россию незадолго до начала новых веяний, и не «Отцы и дети», описывающие пореформенную ломку, а именно «Накануне» являет собой тургеневскую реакцию на предреформенное оживление. В «Накануне» языковая лава еще свежа и не затвердела.
Неологизмы. Отец Берсенева пытается просвещать преподавательский состав пансиона, где воспитывается его сын: «надзиратели также тяготились незваным гостем: он то и дело приносил им какие-то, по их словам, премудреные книги о воспитании» (3, 48). Уважительное «премудрые» здесь слилось с пренебрежительным «мудреные».
Другой пример: Берсенев призывает, на немецкий лад, к сочувствию, к эмпатии, а Шубин иронизирует по его поводу: «– Эх ты, сочувственник! – брякнул Шубин и сам засмеялся новоизобретенному слову» (3, 10).
Ознакомительная версия.