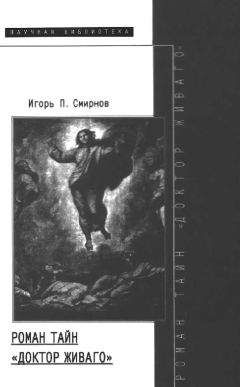Нет ничего более призрачного, чем прозрачность смысла. Философия поверхностности — поверхностная философия. На поверхности релевантен лишь произвол пермутаций: все можно переставить с места на место, поскольку ничто не мотивировано извнутри, не упорядочено структурно-иерархически. Ж.-Л. Нанси в простоте своей развивает философию, которая противоречит самой себе и — даже более того — мышлению в любой его форме: если нет ноуменов, если созерцания достаточно для постижения вещей, если весь смысл человека в том, что «я есмь»[9], то зачем думать? Патология сознания — так можно было бы назвать этот мыслительный ход. Противоречие становится кричащим тогда, когда происходит отказ от интерпретации. Толкование текста может быть ошибочным или правильным. Бегство от толкования алогично, как это демонстрирует нам философия демонстрации, выстроенная Ж.-Л. Нанси. Задача логики — формализовать вывод одного значения из другого. Интерпретация конкретизирует и деформализует эту задачу. Жертвуем толкованием — приносим на заклание ближайшим образом родственную ему логику.
Тот, кто выбирает между интерпретацией и верой в непосредственно ему сообщаемое, выбирает между реальностью истории и ирреальной надеждой на вечную жизнь здесь и сейчас, между трудом (пошедшим на аргументирование) и праздностью (аффектированности), между ответственностью (разделяемой толкователем с толкуемым им автором) и безответственностью (не-автора), между трансцендентальным субъектом классической философии и квазисубъектом (если бы язык поворачивался, нужно было бы сказать: бес-субъектом) постмодернистских пермутаций, рассеянно передвигающим фишки в неведомо куда влекущей его игре.
* * *
Три раздела этого исследования были опубликованы в первоначальных редакциях в «Wiener Slawistischer Almanach»: Bd. 21, 1988, 287–299; Bd. 27, 1991, 119–136; Bd. 34, 1994, 143–182. Глава «Рафаэль и Юрий Живаго» появилась в сборнике «Pasternak-Studien I. Beiträge zum Intemationalen Pasternak-Kongress, 1991 in Marburg», hrsg. von S. Dorzweiler und H.-B. Harder (= Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas, Bd. 30), München, 1993, 155–171. Здесь она, как и остальное ранее напечатанное, публикуется в доработанном виде. Глава «Глухонемой демон» в сокращенном варианте издается в «Трудах Отдела древнерусской литературы» за 1996 г. То, что мы пишем о «Братьях Карамазовых», печатается в журнале «Die Welt der Slaven» (1996, Heft, 2). Две статьи, предварившие эту монографию, были посвящены: одна — памяти Зары Григорьевны Минц, другая — шестидесятипятилетию А. М. Пятигорского.
На разных этапах работы над книжкой нам помогали Е. Г. Водолазкин, И. Границ, Э. Гребер (из нашего с ней семинара возникло несколько соображений, которые будут изложены в дальнейшем), Вяч. Вс. Иванов, К. Ю. Постоутенко, А. М. Пятигорский, Л. С. Флейшман. Чрезвычайно полезными для нас были советы и замечания, которые мы получили от Е. В. и Е. Б. Пастернаков по теме «Пастернак и анархизм». Многие главы обсуждались на аспирантском семинаре славистов, который мы вместе с Р. Лахманн ведем в Констанцском университете. М. В. Безродный оказал нам большую услугу, взявшись критически прочитать весь наш текст, когда он был уже почти готов. «Роман тайн „Доктор Живаго“» выходит в свет благодаря деятельному благожелательному участию И. Д. Прохоровой. Автор сердечно признателен всем, кто дружески поддержал и исправил его (назовем здесь еще С. Котцингер (Франк)), и особенно Г. Г. Суперфину и И. Р. Деринг-Смирновой, чьей всегдашней готовностью помочь он пользовался с такой бессовестной настойчивостью, что одной благодарностью здесь не откупишься — и нужно приносить извинения.
I. Литературный текст и тайна
(К проблеме когнитивной поэтике)
1.1.1.
В самом первом приближении к проблеме таинственного естественно сказать, что оно являет собой такой мир, в который трудно попасть, который «прикрыт», замаскирован окружающей его средой. Если в этом наивном определении есть доля правды, то таинственное равно исключительному.
Какова природа исключительного?
С логической точки зрения элементы подмножества, составляющие исключение (М exkl) в том или ином множестве (М), обладают, во-первых, тем же самым признаком (т), что и все множество, и, во-вторых, собственным признаком (anti-m), контрастирующим с тем свойством, которое распространяется на данное целое:
М exkl (m, anti-m) Ȼ М (т),
где Ȼ обозначает одновременную принадлежность и непринадлежность элементов к некоей области значений. Таинственное, таким образом, двулико, имеет явную и скрытую стороны: оно выступает для внешнего наблюдателя в качестве совпадающего с целым, к которому оно принадлежит, а для внутреннего — прежде всего как противостоящее этому целому. Собственно говоря, только при наличии таинственного мы и вправе различать внешнюю позицию наблюдателя (которому дано лишь множество М (т)) и внутреннюю позицию (которая расположена в пределах подмножества М exkl (m, anti-m)). А.-Ж. Греймас и Ж. Курте эксплицировали таинственное как сложение: «бытие» + «непоявление»[10], т. е. как присутствие в отсутствии. Между тем спрятанное от нас все же является нам — как другое, чем оно само. Его нет там, где есть маскирующий его феномен. Таинственное — не praesentia in absentia, но иноприсутствие.
Отождествляя таинственное с исключительным, мы солидаризируемся с Ж. Деррида[11]. Вот что нам хотелось бы прибавить к уже продуманному им. Если таинственное и исключительное одно и то же, то следует отграничить таинственное от ближайших к нему категорий: от неизвестного-в-себе, у которого вообще нет точек соприкосновения с известным и в которое, следовательно, невозможно, а не просто трудно, попасть, и от иллюзорного, которое внешне равно известному (как и таинственное), но при этом извнутри пусто, не скрывает специального признакового содержания. Иллюзорное не контрарно (как таинственное) тому множеству, в которое оно встроено, но контрадикторно ему. Иллюзорное псевдотаинственно. В противоположность таинственному-исключительному неизвестное-в-себе подразумевает пустое пересечение с уже известным:
М (т) ∩ М incogn (т0) = Ø,
а иллюзорное — ложное совпадение с известным:
М (т) ≠ М simulacr (m, m0).
Неизвестное-в-себе — предмет апофатики в самых разных ее проявлениях; оно сказуемо лишь как несказуемое: сказуема здесь мотивировка несказуемости. Познание открывается себе в этом случае в виде автотеличной аргументации. То, что доказывает апофатика, есть абсолютная сила доказательства, способного быть приложенным даже к тому, что никак не поддается постижению.
Концептуализация иллюзорного означает его разоблачение, или, если воспользоваться термином Ж. Деррида, ставшим расхожим, его деконструкцию, которая приобрела в последнее время не подобающий ей титанический размах, поработив себе, взяв за материал едва ли не всю историю культуры, предшествовавшую — повсюду подозревающему симулякры — постмодернизму[12]. Разоблачение иллюзорного имеет конечным познавательным результатом признание релевантности лишь за очевидным, за доступным для созерцания (Ж.-Л. Нанси довел философию Ж. Деррида до ее крайнего предела), ибо неочевидна для этого гносеологического подхода одна, демистифицируемая им, бессодержательность.
Таинственным занимается криптология (которая отчасти — в качестве формальной теории шифров (криптографии) — является математической дисциплиной[13]). Апофатика опирается на предпосылку, состоящую в том, что аргументирующий (ради аргументации) субъект не способен проникнуть в свой предмет. Деконструкция исходит из положения, в соответствии с которым познаваемое в его иллюзорности не имеет собственной ценности (каковой сполна обладает при этом познающий). Криптология делает познающего и познаваемое равнозначными. Субъект гносеологического акта в криптологии только тогда успешен, когда он взирает не на интересующий его предмет, но из него. Поскольку в процессе разгадки тайн происходит слияние познающего и познаваемого, стирание дистанции между ними, постольку криптология продолжает романтическое шеллингианство (к которому мы еще не раз вернемся на протяжении нашей работы).
Единой гносеологии, как явствует из наших соображений, нет. Познание множественно. Оно распадается на разные представления о мире, вызываемые к жизни тем, что у нас в запасе есть сравнительно большой набор логических операций. Интерес к таинственному не приходится под предложенным углом зрения абсолютизировать. Однако-для литературоведения он оказывается решающим. Он здесь в высокой степени уместен (хотя, разумеется, и не только здесь), более, чем просто конструктивен, — онтологичен.