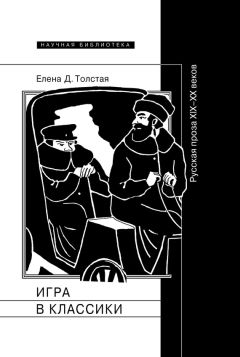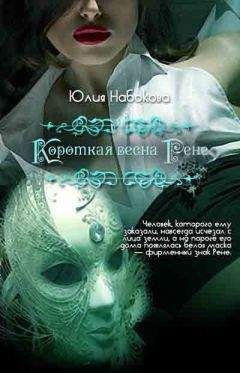Ознакомительная версия.
Внезапно над озером раздается голос умершей подруги:
Но вдруг раздался звук средь тишины священной,
И эхо сладостно завторило словам,
Притихло озеро, – и голос незабвенный
Понесся по волнам:
«О время, не лети! Куда, куда стремится
Часов твоих побег?
О, дай, о, дай ты нам подоле насладиться
Днем счастья, днем утех! <…>[96]
Мы видим, что элегическая грусть романса служит как бы камертоном, настраивающим читателя на печальный ход предстоящих событий. Как и в песне, описываемая прогулка – высшая точка беззаботного счастья для обоих молодых людей. Любопытно, что даже эхо из романса («И эхо сладостно завторило словам») воплощается в тексте Тургенева. «Нездешность» этого эха лишь подчеркивает грустные перспективы, на которые намекается в романсе:
Ее небольшой, но чистый голосок так и помчался по зеркалу пруда; далеко в лесах отзывалось каждое слово; казалось, и там кто-то пел четким и таинственным, но нечеловеческим, нездешним голосом (3, 71).
Эхо с его нечеловеческим звучанием, как бы голос самой природы – возможно, сигнал участия таинственных, чуждых человеку «сил». В описании Царицына оно продолжает минорный мотив, заданный словами «мрачные и грозные» в описании развалин. Вероятно, эти сигналы должны заронить ощущение того, что эпизод, перевернувший представление героини об Инсарове и, возможно, таинственно привлекший ее к нему, сыграл здесь роковую роль. В потасовке, приключившейся на фоне волшебного удвоенного пейзажа, Инсаров проявляет свою агрессивную, мужскую сущность, которая вначале пугает и смущает (но, очевидно, тайно влечет) героиню. Он извиняется, показывая, что ее реакция ему небезразлична, и в итоге эта сцена их сближает. Вместе с тем «волшебный» эпизод как бы снизил Инсарова для Елены; ей жалко разочароваться в нем, она чувствует, что эмоционально задета, – и подбирает подобающее оправдание. Именно после этого эпизода Елена понимает, что влюблена:
Я не испугалась… но он меня испугал. И потом – какое лицо зловещее, почти жестокое! Как он сказал: выплывет! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потом, когда все смеялись, когда я смеялась, как мне было больно за него! Он стыдился, я это чувствовала, он меня стыдился. Он мне это сказал потом в карете, в темноте, когда я старалась его разглядеть и боялась его. Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким? Жизнь дело грубое, сказал он мне недавно (3, 81).
Узнавание родственной души. Возникающая, наконец, любовь протагонистов «есть мгновенное возобновление, актуализация райских первоначал мира или предвечного праединства душ. Правда, кое-где их родство осторожно заменяется полным культурно-эмоциональным сходством, если не прямым духовным тождеством влюбленных», пишет Вайскопф (501).
Очень рано по развитию сюжета Елена находит у Инсарова и высоко оценивает те черты, которые рассказчик приписывает ей самой: «а глаза у него выразительные, честные глаза» (3, 58). Ср. ее собственное первое появление в романе: «девушка с бледным, выразительным лицом» (3, 17–18).
По схеме Вайскопфа, «редуцированной или метафизически неразвернутой формой взаимного опознания может стать и единство душевного склада, т. е. культурно-эмоциональное тождество героев. Оно открывается в разительном соответствии их эстетических или порой <…> даже научных пристрастий <…>, а чаще всего <…> в их общей любви к музыке или поэзии как вести, доносящейся с родных небес» (501). В «Накануне» же общность героев заключается, наоборот, в отвержении эстетики: «Правда, у нас вкусы похожи: и он и я, мы оба стихов не любим, оба не знаем толка в художестве» (3, 80). В то же время их объединяет любовь к животным и пристрастие к розам: «Кстати, и он и я, мы одни цветы любим. Я сегодня сорвала розу. Один лепесток упал, он его поднял… Я ему отдала всю розу» (3, 81).
Объятья впрок. Зачастую у героя, по Вайскопфу, «всплывает туманное, но радостное предощущение, пока беспредметная эйфория, порой побуждающая его к тому, чтобы раскрыть объятья всему миру» (481); именно это происходит с Еленой, догадывающейся, что она любима: правда, эти объятья не беспредметны, а навеяны мыслью о конкретном человеке:
«Он меня любит!» – вспыхивало вдруг во всем ее существе, и она пристально глядела в темноту; никому не видимая, тайная улыбка раскрывала ее губы… но она тотчас встряхивала головой, заносила к затылку сложенные пальцы рук, и снова, как туман, колыхались в ней прежние думы. Перед утром она разделась и легла в постель, но заснуть не могла. Первые огнистые лучи солнца ударили в ее комнату… «О, если он меня любит!» – воскликнула она вдруг и, не стыдясь озарившего ее света, раскрыла свои объятия… (3, 86).
Сегодня нам может показаться, будто Тургенев упреждает поэтику грядущего символизма в этих сценах с Еленой, которая сперва просит у неба любви, а потом, когда счастье ее уже обозначилось, в постели раскрывает объятия солнечным лучам, как Даная – золотому дождю. На самом деле она вторит своим поведением бесчисленным прототипам из заурядной романтической беллетристики.
Отключенное сознание. По схеме Вайскопфа, либо еще на первой, депрессивной стадии развития романтического героя, либо на переходе ко второй часто нагнетается мотив «снятого», отключенного сознания, теряющего всякую определенность и, соответственно, напоминающего об известных мистических техниках. Практически это состояние граничит с обмиранием или временной смертью, за которой последует пробуждение, хотя и то и другое может стать также непосредственным результатом ошеломляющей встречи с эротическим партнером (480). В «Накануне» оно предваряет решающую встречу-объяснение: Инсаров задумал уехать, не попрощавшись с Еленой. Она ждет его, пока не понимает, что он не придет. Тогда Елену постигает отчаяние, которое вскоре счастливо изгонит судьбоносная встреча. Но поскольку отчаяние или уныние считается смертным грехом, его результатом может стать вторжение демона, который поработит душу героя.
Это наблюдение, сделанное на материале «тривиальной» романтической беллетристики, бросает свет на подлинное значение той метаморфозы, которая происходит с Еленой. Она ждет, чтобы Инсаров перед отъездом попрощался с ней, но проходят часы, он не является, и ее охватывает отчаяние:
Полчаса пролежала она неподвижно; сквозь ее пальцы на подушку лились слезы. Она вдруг приподнялась и села; что-то странное совершалось в ней: лицо ее изменилось, влажные глаза сами собой высохли и заблестели, брови надвинулись, губы сжались (3, 87).
Она идет не видя дороги, «автоматически»:
Елена шла, потупив голову и неподвижно устремив глаза вперед. Она ничего не боялась, она ничего не соображала; она хотела еще раз увидаться с Инсаровым. Она шла, не замечая, что солнце давно скрылось, заслоненное тяжелыми черными тучами, что ветер порывисто шумел в деревьях и клубил ее платье, что пыль внезапно поднималась и неслась столбом по дороге (3, 87–88).
Она идет ему наперехват, через лес, чтобы встретить его на дороге к станции. Спасаясь от внезапно хлынувшего дождя, она заходит в часовню на дороге, встречает старушку-нищенку, дарит ей свой платок, а та, пожалев ее, говорит, что вместе с платком унесет ее горе. И действительно, стоит старушке уйти, как на дороге появляется Инсаров. Таким образом, в желанной встрече задействованы были и «темные» силы – бессознательная активность героини и невинная магия помощного персонажа.
Обретение любимого. По Вайскопфу, восполнение индивидуальной жизни осмысляется как обретение ею целостности и самой «цели»: ср. определение Эроса у Вяч. Иванова: «Томленье всех скитальцев / По цели всех дорог»[97].
Елена до какого-то момента продолжает тревожиться, изводя себя сомнениями; она завидует Инсарову: «Но насколько он лучше меня! Он спокоен, а я в вечной тревоге; у него есть дорога, есть цель – а я, куда я иду? где мое гнездо?» (3, 80). (В том же романе Берсенев не хочет «лепиться на краешке чужого гнезда», – фраза с автобиографическими для Тургенева коннотациями.) Но еще до решающего свидания героиня и сама начинает ощущать «спокойствие» в присутствии любимого: «Елена казалась серьезнее всех, но на сердце у ней было чудное спокойствие, какого она давно не испытала. Она чувствовала себя бесконечно доброю…» (3, 72). С ним героиня наконец дома – больше, чем в семье, к которой она не привязана: «Мне с ним хорошо, как дома. Лучше, чем дома» (3, 81). Наконец-то она обретает свой настоящий дом, свою родину – это любовь. И вновь, как в случае с Катей, она претерпевает амбивалентные ощущения: «И хорошо мне, и почему-то жутко, и Бога благодарить хочется, и слезы недалеко» (Там же).
Ознакомительная версия.