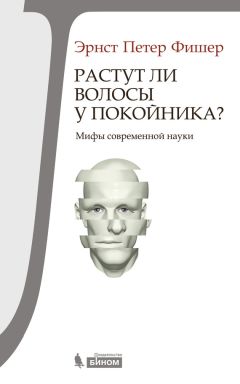«Ночь Гофмана и свет Ньютона»
В такой объемной теме, как культура, вероятно, целесообразно пустить в ход тяжелую артиллерию, поэтому обратимся к Исааку Ньютону и его математическому обоснованию механики, которое появилось в конце XVII века. Его эпохальный труд так и назывался – «Математические начала». В своем учении о природе Ньютон, в числе прочего, сформулировал законы движения, например «Сила равна массе, умноженной на ускорение», ввел концепции тяготения и инерции и предоставил всей мировой истории сцену, которую назвал абсолютным пространством и абсолютным временем. В этих рамках воображаемые как идеальные точечные массы предметы перемещаются по путям, которые рассчитываются по правилам евклидовой геометрии, прошедшим проверку еще в античные времена.
Если сегодня физика Ньютона создает впечатление простого изображения механических событий, согласно которому происходит осмысление движения мячей, шаров и других предметов, например наших автомобилей, то для философа Иммануила Канта физика Ньютона была более чем простым объяснением орбит движения планет и траекторий пушечных ядер. Для него успех придуманных Ньютоном начал – с их помощью ученые смогли, например, объяснить причины приливов и отливов, а также установить, что Земля имеет не совсем круглую форму, – показал, что здесь сработали общие свойства человеческого мышления. Создавая свою знаменитую теорию познания, «Критику чистого разума», Кант таким образом возвысил законы ньютоновской физики до общих законов человеческого мышления. Он объявил пространство и время категориями абсолютными, данными нам до каждого опыта и, кроме того, определил законность евклидовой геометрии как незыблемую – истинную.
Иными словами, «Критика чистого разума» – это «Критика механики Ньютона», и здесь совершенно очевидно, какие последствия для философии, т. е. однозначно для культуры, имел успех в естествознании.
Этот вывод подготовил почву для значительно более драматического последствия «Математических начал натуральной философии»: в XVIII веке постепенно в обществе складывалось мнение, что весь мир подчиняется одному-единственному закону природы. Ньютон представил Вселенную как замкнутое целое, которое подчинено четким законам и «не имеет никаких дверей, ведущих в духовную сферу», как писал литературовед Петер фон Матт в своей работе «Ночь Гофмана и свет Ньютона» (она включена в его книгу «Общественное почитание сильфов»). Кульминация культа Ньютона породила фантастическую литературу. Фон Матт говорит «о глобальном световом шаре мира Ньютона» и подчеркивает, что «эпохальное достижение Е. Т. А. Гофмана (например, в его «Эликсире дьявола») заключается в том, что он инсценирует трещину шара Ньютона как опыт отдельных людей, которые в течение длительного времени и нередко до последнего момента не понимают, что с ними происходит».
Существование и видимость
Позволим себе совершить скачок в конец XIX века, когда был описан «новый вид излучения», названный в честь своего открывателя рентгеновским. Когда Вильгельм Конрад Рентген в 1895 году обнаружил эти таинственные лучи, физики уже знали, что в природе существуют разные виды электромагнитного излучения, которые хотя и распространялись подобно видимому свету в виде волны, но оставались невидимыми. Видимый свет от красного, желтого и зеленого до синего и фиолетового представляет собой лишь незначительный фрагмент спектра волн, существующих в природе. Этот вывод влечет за собой новую ориентацию искусства, что подтверждает следующая цепочка идей.
С открытием рентгеновских лучей становится ясно, что окружающая нас действительность на самом деле не такая, какой она нам кажется. Тот, кто хочет показать мир таким, какой он есть, уже не должен показывать его таким, каким он кажется. Иными словами, после открытия невидимых лучей стало ясно, что дабы изобразить реальность, необходимо использовать формы, отличные от тех, что мы видим. Результат известен – перед художниками открылся путь к абстракции. То, что наука, в частности, квантовая механика, развивается аналогичным путем, делает общую историю искусства и науки, историю культуры лишь более увлекательной.
Наука полностью лишена романтики
Если кто-то пускается в романтику, то должен делать это добросовестно и надежно с точки зрения филологии. Обратимся к одному из тезисов Новалиса, который даже литературоведы называли «лучшим определением романтического». Новалис был первым, кто использовал образ «голубого цветка» романтики в неоконченном романе «Генрих фон Офтердинген». Там сказано: «Придавая банальному высокий смысл, примелькавшемуся – таинственные очертания, известному – достоинство неизвестного, конечному – отблеск бесконечного, я их романтизирую».
Любой человек, размышляющий о том, где он может использовать эти четыре варианта действий, вспомнит о многих сферах повседневной жизни, но естественные науки, скорее всего, останутся без внимания. В области физики, химии, биологии и всех остальных естественнонаучных дисциплин мы ожидаем систематических действий, рационального анализа и аналогичных качеств, но уж ни в коем случае не романтики! Однако это необдуманное предубеждение – огромная ошибка. Если следовать определению романтизма по Новалису, то в истории науки очень много романтического.
С точки зрения этимологии, слово «романтика» происходит от названия «lingua romana», то есть от названия сочинений, написанных на языке народов романских стран. Они были антиподом традиционных текстов, написанных до того времени на латинском языке («lingua latina»). От «lingua romana» затем произошло слово «роман», которое стало обозначать понятие «романтический». В этом смысле романтика означает отход от античности и классических прототипов и обращение к собственной культуре и истории, к миру сказаний и мифов Средневековья.
Тот, кто хочет придать «известному достоинство неизвестного», все окружает ореолом романтики. И пусть это звучит ошеломляюще, но именно здесь и сидит главный аспект естествознания. А почему это так, ответил Карл Поппер, философ критического рационализма. В своих трудах он неоднократно указывал: задача естествоиспытателей заключается в том, чтобы то, что можно видеть – известное, – объяснить тем, что является невидимым – неизвестным. Рассмотрим несколько примеров: видимое падение камня со времен Исаака Ньютона объясняют невидимой гравитацией, а видимое выравнивание иглы компаса – невидимым магнитным полем Земли. Известное – падение и вращение – приобретает достоинство неизвестного, поскольку то, как гравитационное поле Земли создает силу тяжести и как возникает магнитное поле нашей планеты, до сих пор остается загадкой для ученых. Кстати, идея магнитного поля принадлежит обладающему множеством талантов англичанину Майклу Фарадею, который жил и творил в эпоху романтизма. Тому, что существует романтическая поэзия и философия, мы безоговорочно верим, не вдаваясь в детали, например не подвергая проверке определение Новалиса. А вот то, что ученый может действовать, как романтик, и при этом способен достичь успеха, мы не учитываем.
К сфере романтики относится – в подтверждение слов Новалиса – убеждение в существовании закона полярности. У каждой силы и каждой части есть противодействие и противовес, в качестве примеров охотно приводят бодрствование и сон, а в связи с этим – светлую и темную стороны мышления. Согласно Фарадею, романтическое наслаждение рождается при наблюдении зеркальной симметрии. После того как в 1820 году обнаружилось, что электрический ток создает магнитное поле, Фарадей попытался – из романтических побуждений – добиться обратного, то есть при помощи магнитного поля привести в движение электрический ток. Ему пришлось долго экспериментировать, но через год результат наконец-то был достигнут, и с тех пор мы знаем, как сгенерировать ток – при помощи электромагнитной индукции. Включая сегодня свет или компьютер, мы пользуемся абсолютно романтическим открытием, и было бы прекрасно хотя бы иногда вспоминать об этом.
Обратимся еще к одному вызову Новалиса, который мы так же легко можем наполнить опытом естествознания. Вспомним «год чудес» Альберта Эйнштейна – 1905 год. Первый и действительно революционный труд, представленный тогда Эйнштейном, доказал, что свет может проявиться как в виде волны, так и в виде потока частиц. Сегодня мы воспринимаем этот вывод без особых эмоций и нарекаем его термином «корпускулярно-волновой дуализм света» (т. е. двойственная природа света). Для Эйнштейна же тогда рухнули все основы физики, ведь он, в конце концов, не объяснил природу света, а показал, что его вообще нельзя объяснить. Потому что если нечто одновременно может быть и волной и частицей, то пусть даже удастся выяснить все их характеристики – длину волны, скорость, поляризацию, и многое другое, – но сказать, что же это такое, собственно говоря, нельзя.