На другой день после свадьбы, прослышав, что в Кадене, в загородном поместье своего кузена, остановился Клопшток, Лессинг уговорил Еву и почтмейстера поехать туда. Когда вышла в свет книга Клопштока «Немецкая республика ученых», Лессинг ощутил в ее сложном подтексте стремление объединить людей с развитым гражданским сознанием для совместной деятельности.
В Кадене их радушно приняли. Впрочем, иначе и быть не могло. Пока Еву и почтмейстера гостеприимно потчевали в доме чаем, Клопшток и Лессинг отправились прогуляться на свежем воздухе. Они расхаживали взад и вперед по широкой поляне среди весьма живописно и с большим вкусом расположенных по-осеннему пестрых групп деревьев. Чтобы видеть обоих собеседников, Еве было достаточно повернуть голову к широкому эркерному окну и слегка приподняться. Готхольд, хоть и был весьма солидной комплекции, казался изящным, почти хрупким рядом с огромным Клопштоком.
Клопшток предпочитал вести беседы на просторе этого старинного парка, так как имел обыкновение говорить очень громко и нередко чересчур экспансивно.
— Странно, что мы до сих пор не встречались, тем более, что нас связывают общие друзья — Глейм, Боде и Эберт, — заметил Лессинг.
— Нас связывают также и одинаковые жизненные испытания. Или, может, лучше сказать: разочарования? — ответил Клопшток. — Вас, как мне рассказывали, они постигли в Вене, в Италии, и в особенности, говорят, в Вольфенбюттеле; меня — при датском дворе и у Баденского маркграфа. Тот заманил меня в Карлсруэ и произвел в надворные советники.
— Как? Это что, теперь такая мода? Оригинально мыслящих людей делают надворными советниками? — со смехом вставил Лессинг.
— Я сбежал от них на следующий же день — представляете себе, улизнувший надворный советник! — и клянусь, ноги моей больше не будет ни при одном дворе. Поскольку в Карлсруэ, как перед тем и в датской резиденции, я держался без должного подобострастия, то вся эта шайка относилась ко мне враждебно, недоверчиво, распускала сплетни с тем оскорбительным пренебрежением, на какое способны одни лишь царедворцы. — Но жить на что-то надо! Теперь я сижу на шее у своего кузена. Немцы полагают, что их поэты должны быть столь же непритязательны, как колокольчики в поле. О благородное искусство!
Внезапно Клопшток заговорил стихами:
— Благодарю тебя, мой разум, за то,
что ты, едва созрев,
Уже решил, и верен своему решенью,
Ради придворной похвалы не предавать
Поэзии святое искусство!
То была одна из тех знаменитых, неистовых, обличающих придворную знать клопштоковых од. Используя яркие образы, свойственные его манере, он называл этих людей похотливыми кутилами и запутавшимися в паутине мухами, завоевателями и тиранами без меча, чтобы затем презрительно возвысить голос:
— Кто назвал их людьми, их, кои по глупости
Всерьез почитают себя выше нас…
— Теперь я часто замечаю в ваших одах какую-то новую, если можно так сказать, интимную интонацию, — задумчиво произнес Лессинг. — Достаточно взглянуть на названия: «Мое отечество», «Немцы». Или такая богатая ассоциациями ода, как «Конский след». Так что же вы ищете, — спросил он прямо, — отечество или нацию?
— И то, и другое, а может, и что-то третье! Необходимо преодолеть иностранное влияние. Но кому я об этом скажу? Еще ваша «Гамбургская драматургия» указала нам всем эту цель. Нам следует с достоинством отринуть современное французское искусство, а заодно, по-моему, и греческую античность. Нельзя, чтобы они заполоняли и формировали все наши устремления, все наше искусство, все наши мысли, нашу поэзию и наши идеалы. Я хочу, чтобы немец больше не стыдился своего прошлого, как чего-то позорного. Поэтому я читаю «Германию» Тацита, и «Эдду», и различные старонемецкие сочинения. Мы — вы и я — с нашими слабыми силами не можем создать немецкую нацию и все, что к ней относится, ибо триста карликовых Тамерланов, триста мелких князьков требуют от подданных, чтобы они носили русские или прусские, любекские или липпские цвета. Но зато, используя древние источники и литературные памятники, мы могли бы основать национальную традицию, которая поможет покончить с внутренним и внешним иностранным влиянием. Я хочу пробудить в немцах гордость.
И Клопшток снова принялся читать стихи, лишь спросив предварительно:
— Вы знаете оду «Мое отечество»?
Никогда еще ни одна страна
Не была столь справедлива к иноземцам, как ты.
Но знай меру и в этом, ибо они недостаточно
благородны,
Чтобы восхищаться твоими пороками.
Лессинг рискнул усомниться:
— А так ли необходимо это провозглашать? Неужели нашего собственного примера недостаточно?
— Привычки, эти священные коровы, разлеглись в наших тесных улочках, а нам уж и согнать их нельзя, чтобы расчистить дорогу? Даже в нашей почтенной гимназии к немецкому языку относились столь презрительно, что мы за шесть нескончаемых лет не узнали о немецкой грамматике ровным счетом ничего. Ничего! Кто нам сказал хотя бы, что некогда существовал древневерхненемецкий язык, за ним — средневерхненемецкий и наконец новый, коему положил начало Лютер? А как возникли эти древние верхненемецкие языки? Что это — искусственные образования, поэтические наречия? Сплошные вопросы!
— В поэме «Скакун» Гуго Тримбергского есть несколько стихов, так, лишь отрывки — я спишу их вам, как только вернусь в Вольфенбюттель, — в которых содержится совет заимствовать все лучшее из «местных говоров», то бишь, из немецких диалектов, — ответил Лессинг. — Если не ошибаюсь, там сказано, причем весьма архаичным слогом, что в этом деле «тот верно поступает», кто делает его искусно и «меру соблюдает». Для меня это служит доказательством того, что немецкий литературный язык, так называемый верхненемецкий, следует рассматривать как выборку из диалектов Германии; по крайней мере, наши писатели прежних поколений воспринимали и развивали литературный язык именно в свете этих представлений.
Клопшток остановился, опустил голову, в задумчивости поднес ко лбу палец левой руки, а затем произнес:
— Да, пришлите мне эти стихи! Как славно иной раз бывает снова задуматься над великими идеями развития!
— Я хочу вам также послать три первые песни вашей «Мессиады» на итальянском языке, — добавил Лессинг. — Поскольку во время моего путешествия по Италии я познакомился с переводчиком, у меня есть все основания рассчитывать на получение следующих частей великой поэмы.
— Какая приятная новость! — воскликнул Клопшток. — Перевод, о котором я и не подозревал!
Когда же пришла пора прощаться, один назвал другого «о, благородный Лессинг», а тот его «дорогой мой Клопшток», что явно свидетельствовало об искреннем, без тени взаимной зависти, почтении друг к другу.
В Вольфенбюттеле Лессингу было дозволено наконец, после стольких лет, покинуть свой проклятый замок и вместе с семьей переехать в так называемый дом Бёрнера, расположенный в непосредственной близости от дворцовой площади. Лессинг когда-то был здесь, и дом показался ему достаточно просторным, однако для большой семьи, да еще с непоседливыми детишками, он был тесноват. Лессинг решил на первое время поступиться собственными удобствами, оставив пока в замке свои личные вещи, книги, журналы, письма, рукописи.
Хуже было другое: выяснилось, что выданные ему авансом деньги утекли, как вода сквозь пальцы. Поскольку Ева, по его совету, не привезла с собой никакой мебели, он был вынужден покупать самое необходимое, вещь за вещью, на всевозможных распродажах. Между тем он продолжал посылать деньги и своей больной матери, чтобы она ни в чем не нуждалась.
Так что вечерами, когда дети спали, он сидел вместе с Евой за столом и чаще, чём ему бы того хотелось, занимался денежными подсчетами, пытаясь свести концы с концами. Однажды он, смеясь, сравнил себя с Фрицем и Энгельбертом, которые регулярно упражнялись в счете и письме под присмотром кантора Штегмана; избавившись от необходимости преподавать эти предметы, Ева и Готхольд могли, таким образом, учить детей более сложным наукам — латыни et cetera…
— У меня все — как у милого Фрица, — весело сказал Лессинг. — Поначалу я учил цифры, теперь приходится иметь дело с числами. Но в моем случае это, безусловно, шаг назад. А между тем ты даже представить себе не можешь, как я счастлив, несмотря ни на что. Ты рядом, и любая задача кажется мне разрешимой. Как тебе нравится этакое безрассудство? — И, не дождавшись ответа, добавил с улыбкой: — Если же станет невмоготу, я добьюсь повышения своей пфальцской пенсии.
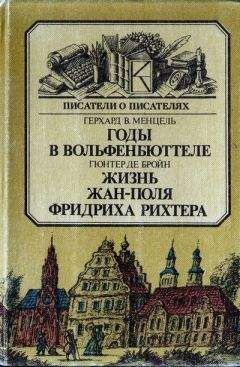
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)



