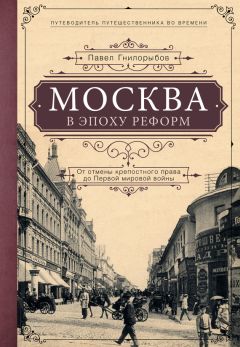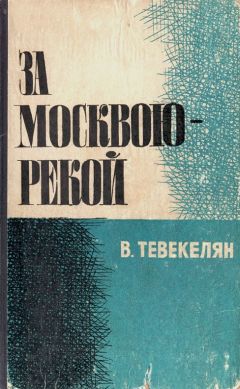Моховая улица. Слева – старое университетское здание
С. Д. Урусов вспоминает студенческую жизнь Московского университета начала 1880-х и экзаменационную горячку, столь похожую на нынешнюю. Автор учился на юридическом и филологическом факультетах: «Лекции… читались профессорами с 9 до 3 часов по установленному и объявленному расписанию. Каждая лекция продолжалась обычно около 40 минут, т. е. начиналась спустя 15–20 минут после назначенного часа. Для издания литографированного курса каждого профессора образовывалась около какого-нибудь предприимчивого студента издательская группа из 4–5 участников, записывавших лекцию; в начале года объявлялась подписка и собирались деньги на постепенно выпускаемые листы. По этому изданию можно было заблаговременно готовиться к экзамену, но большинство студентов складывало получаемые листы «про запас» и начинало их зубрить лишь с приближением весны. Сигналом для начала занятий служило, по студенческой примете и традиции, появление на улицах моченых яблок».
Сессия лишала студентов привычного состояния беззаботности и гармонии: «Бегло прочтя листов 40 литографированного курса, т. е. около 300 страниц, мне приходилось иногда, перед самым экзаменом, посвящать 2 суток второму, более внимательному чтению, причем прочитанный лист тут же навсегда отбрасывался в сторону, а последние страницы дочитывались уже в экзаменационном зале. При 12–15 предметах и 40–50 подразделениях каждого курса в виде глав (билетов), представлявших собой группу взаимно связанных и приведенных в систему вопросов, студенту предстояло быть наготове изложить, по возможности связно и толково, придерживаясь порядка изложения профессора, около 600 лекций».
П. Д. Боборыкин считает, что общественная жизнь в Москве начала восьмидесятых остановилась. Клубы превратились в картежные притоны, либеральные издания только начали увеличивать тиражи, а славянофильское направление заглохло: «И не будь в Москве так мало полуграмотных обывателей-купцов, квасных патриотов, огорченных помещиков и всякого ненужного люда, консервативно-русофильское направление стушевалось бы в несколько лет. Сойди со сцены два его вожака, и тогда, если бы и печатались еще газеты этого покроя, то в них происходила бы неумелая защита одряхлевшего общественного сепаратизма». Лучшие литераторы подвизаются в Петербурге, хоронят Писемского и Тургенева, еще крепится и здравствует Островский.
Газетчики не в силах найти талантливого фельетониста, хорошего корреспондента, владеющего техникой репортажа. Да что уж там, не всякий цветасто и грамотно опишет скучное многочасовое заседание ученого общества! «Даже писатели, известные своим литературным образованием… поддерживали в своей бытовой, обывательской публике вкус к довольно-таки низменным формам остроумия, сатиры, зубоскальства, позволяли своим сотрудникам нести в журнал всякую замоскворецкую грязь и скандалы трактиров, полпивных и клубов».
Аксаков в начале 1880-х надеялся, что «…настанет же пора, и, может быть, даже не в слишком далеком будущем, когда прекратится в русской интеллигенции это «пленной мысли раздраженье», когда здравый смысл обретет себе наконец свободу и право гражданства, и эмансипируется общество из-под власти «жалких» и «хороших слов», суеверия доктрин и теорий, фетишизма «последних слов науки» и всех этих побрякушек и погремушек чужой, всегда у нас запоздалой моды, которыми оно еще и теперь подчас так кокетливо обвешивается и красуется, – точь-в-точь, как ачкоус или папуас Полинезии – стеклярусом и другими блестящими безделками, добытыми от заезжего европейца»[113]. Д. И. Никифоров горько плакался: «Мы видим, что потомки лиц, вынырнувших из подонков общества, пользуются в настоящее время чуть ли не царскими почестями, а потомки патрициев древнего Рима служат поденщиками в клоаках Рима нового».
Доходы представителей нарождавшегося среднего класса зависели от частных заказов и не были постоянными. П. Д. Боборыкин пишет, что на рубеже 1860–1870 гг. адвокаты зарабатывали приличные деньги: профессия только вошла в массовый обиход, несколько человек сколотили себе имя и состояние, но постепенно цены на юридические услуги «устаканились», а грамотные истцы и тертые жизнью клиенты предпочитают не пользоваться помощью адвокатской братии. Юридические факультеты переполнены, их выпускники вынуждены искать себе работу в изменившихся условиях, когда романтический ореол адвоката или присяжного поверенного 1860-х годов в значительной мере развеялся.
Приходится вертеться и врачам: частная практика необходима как воздух, жалованья в казенных учреждениях смешны. Молодой ординатор Екатерининской больницы получал в год 200 рублей жалованья. Московские врачи были избалованы богатыми клиентами из купцов и дворян, которые платили за прием умопомрачительные деньги, что позволяло бесконечно поднимать таксу и оставлять ни с чем коллег по цеху: «И купечество, и дворянство, и прочий люд, имеющий средства приглашать известного доктора, отличаются одним и тем же свойством: суеверием во всех его разветвлениях. Каждое ловкое излечение болезни может здесь превращать любого доктора из простого смертного в чудотворца. И начнется поклонение ему. Вчера он брал три или пять рублей, через месяц он берет десять, пятнадцать, а там и начинает назначать таксы, какие ему заблагорассудится. Петербург не знает таких поборов, по крайней мере, не знал их до самого последнего времени».
При этом смертность в городе оставалась значительной. В 1879 году от сыпного тифа умерло 183 человека, от чахотки – 3131 человек, а всего на тот свет отправились 22 821 человек[114]. В 1883 году смертность составила 24 798 человек, а в 1886 году увеличилась до 28 643 человек. Чахотка за 1878–1889 годы унесла жизни 38 320 горожан. Число самоубийств колебалось на уровне 80–110 в год[115].
Персонажи, владевшие капиталами, составляли слой рачительных «хозяев». Просвещение в мир Замоскворечья, Таганки, Рогожской части проникало не сразу. «Масса собственников и дельцов купеческого сословия продолжают жить первобытно. У них происходит процесс растительный: наживают деньги, строят дома, покупают дачи, приучаются к чистоте и привычкам обеспеченных людей. Разъедающий элемент, который вносит с собой идеи, другие умственные и нравственные запросы, приходит только в виде детей, когда им дают высшее образование».
Москва, как мы видим, сохраняет деревенский налет не только во внешних чертах, но и в сознании жителей. Огромная пропасть разделяла обладателя университетского диплома и охотнорядского лавочника. Подобный разрыв сохранялся на всем протяжении истории столицы, его плоды мы пожинаем и в XXI веке: в 1950–1980 годы в столицу переселялись выходцы из провинции, которые продолжали по деревенской привычке содержать под окнами типовых многоэтажек сиротливые огородики. Эту страсть вытравили только в последние годы Советского Союза.
Последние полтора столетия московской модернизации были очень поверхностными: обитатели фабричных поселков не сразу забывали крестьянские привычки и не теряли связи с деревней. Количественное увеличение населения не дает качественного рывка. Какой процесс шел активнее – урбанизация деревни или «окрестьянивание» столицы? Вопрос лежит не столько в научной сфере, сколько в философско-обывательской. Москва – огромный плавильный котел, она каждый год рекрутирует население со всей страны и протягивает свои щупальца дальше и дальше. Как водится, по радиально-кольцевой схеме.
Москву на заре 1880-х годов заполняли желающие выгоднее продать свой труд, город становился торговым и мужицким. Численность населения преодолела планку в три четверти миллиона, в январе 1882 года в городе живут 753 тысячи человек[116]. Пестрый общинный мир захватывал столичные улицы: «Сообразите только, какое число крестьян притягивается к Москве для ежедневной работы, водовозов, легковых извозчиков, ломовых, фабричных и всевозможных служителей. Здесь есть местности, где вы весной и летом увидите народные сцены, какие в Петербурге – в редкость. В фабричных кварталах Москвы вечером раздаются песни, водят даже хороводы. Вы очутитесь прямо среди праздничной деревенской жизни».
В 1910-е годы в российских городах проживало всего лишь 14 % населения, что было ниже уровня Германии и Франции 1850-х годов (15 % и 19 %)[117]. Из жителей Петербурга в 1897 году только 31 % были коренными, остальные – пришлые крестьяне[118]. Многие пришельцы не собирались оставаться в городе навсегда.
Положение усугублялось тем, что провести границу между городом и селом было практически невозможно – крестьяне охотно принимали на лето московских дачников, а московские промышленники раздавали заказы за тридцать-сорок верст от Первопрестольной. Крестьяне изготавливали мебель, картузы, перчатки, мелкие металлические изделия, вязали салфетки и скатерти, участвовали в производстве ткани.