Жена кантора и Мальхен были готовы, если понадобится, помочь повивальной бабке. Пощупав Еве пульс, представительная дама распорядилась приготовить как можно больше горячей воды и заодно поинтересовалась возрастом роженицы.
— Сорок один год, — сказал Лессинг.
— В таком случае необходимо пригласить еще и врача! — заявила акушерка столь решительным тоном, что Лессинг тут же собрался в дорогу. Он не хотел ничем пренебречь, ничего упустить.
Эта предусмотрительность оказалась весьма кстати, ибо роды протекали неожиданно тяжело. Пришлось даже применить ужасные железные щипцы.
На свет появился светловолосый мальчик и огласил комнату первыми криками. Добро пожаловать, дорогой сын! — подумал Лессинг. Акушерка завернула младенца в теплые пеленки и положила его в широкую постель Лессинга. Тот встал рядом, отказываясь уйти, и долго всматривался в лицо сына. Оно казалось ему таким родным!
Врач откланялся, пообещав заглянуть позднее, Ева спала, а повивальная бабка отвела Лессинга в сторону и предупредила, что ему потребуется немало выдержки. Но он лишь возразил:
— Теперь, когда я так счастлив?
Милое кудрявое дитя спало на подушках, поражая своей бледностью, и на следующий день тихо скончалось, как угасает огонек. Рождество 1777 года.
«Радость моя была недолгой: я лишился сына и горько его оплакиваю: ибо в нем было столько разума, столько разума! — писал Лессинг своему верному другу Эшенбургу. — Не подумайте, будто короткие часы отцовства успели превратить меня в этакого одуревшего папашу-болвана. Я знаю, что говорю. Разве это не было проявлением разума, что его пришлось тащить на свет железными щипцами? и что он сразу распознал неладное? — Разве это не было проявлением разума, что он воспользовался первой же возможностью, дабы снова покинуть этот мир? Правда, маленький негодник того и гляди утащит за собой и мать, ибо надежда, что мне удастся сохранить ее, все еще слаба. Единственный раз я захотел обрести те же нехитрые радости жизни, что и прочие люди. Но видно не судьба».
Десять дней Ева пролежала в беспамятстве. Лессинг не отходил от ее постели. Затем ей стало немного лучше, появилась слабая надежда. Надежда! Он сел за стол и написал своему брату Карлу: «Только что я пережил четырнадцать самых печальных дней, какие только выпадали на мою долю. Я рисковал потерять жену, а эта потеря чрезвычайно омрачила бы мне остаток жизни. Она разрешилась от бремени, и я сделался отцом прелестного мальчика, здорового и бодрого. Но он оставался таковым лишь двадцать четыре часа став жертвой жестокого способа, которым его пришлось вытягивать на свет… Короче говоря, я едва осознаю, что был отцом. Радость была столь быстротечна, а скорбь отступила перед еще большей тревогой! Ибо Ева лежала все эти девять, а то и десять дней без сознания, и каждый день, каждую ночь меня по нескольку раз отгоняли от ее постели, опасаясь, что я лишь усугублю ее предсмертные страдания. Ибо меня она узнавала даже в беспамятстве. Наконец, болезнь разом отступила, и вот уже три дня, как я питаю твердую надежду, что на сей раз мне все же удастся ее сохранить…»
Но Еву опять охватила страшная слабость. Лессинг сидел у ее постели, вытирал холодный пот с ее лица, смачивал ей пересохшие губы, нежно гладил ее волосы, страстно шептал ее имя и все же не смог ее спасти. Искра угасла.
«Моя жена мертва; мне было суждено пережить и это испытание. Я радуюсь, что теперь на мою долю может выпасть уже крайне мало подобных испытаний; и я спокоен», — писал Лессинг Эшенбургу 10 января 1778 года. Но брату он признался, сколь глубоко потрясен:
«Каким скорбным вестником прибудешь ты к моему пасынку! — а ведь именно на это я вынужден тебя обречь… Его добрая мать, моя жена, мертва. Если бы ты ее только знал! Но говорят, хвалить свою жену — значит восхвалять себя. Ну да ладно, больше я ничего о ней не скажу. Но если бы ты ее только знал!» Жалоба прозвучала все же и в одном из писем Эшенбургу: «Если бы я мог ценою половины оставшихся мне дней купить себе счастье прожить другую половину в обществе этой женщины: с какой радостью я бы это сделал! Но это невозможно: и теперь мне снова предстоит влачить свой путь в одиночестве».
Он смертельно устал, но вынужден был взять себя в руки и бороться, ибо нападки уже начались. И он боролся — с отчаянным мужеством.
Наконец Лессинг поселился в домике с выступающими вперед боковыми крыльями и барочной четырехскатной крышей, но теперь, без Евы, он был великоват для него и троих детей — Мальхен, Энгельберта и Фрица. Наконец-то Лессинг мог, оторвав глаза от работы, любоваться сочной зеленью лужайки у себя под окнами, но вот беда — нередко, особенно по утрам, она казалась ему лишь неясным сиянием, ибо зрение его резко ухудшилось. Это было мучительно, но и легко объяснимо: в последние годы, когда денег не хватало даже на свечи, он постоянно читал до глубоких сумерек.
Однако ту публикацию, что была сейчас у него в руках, он знал почти наизусть, ибо постоянно ее читал и перечитывал, переходя от окна к окну и останавливаясь ненадолго то тут, то там. Причем на сей раз он больше, чем обычно, прочитывал «между строк», как говаривали у него на родине. Эшенбург, чья неизменная верность могла сравниться разве что с верностью господина Мозеса, обнаружил на страницах «Добровольных взносов в гамбургские известия из мира учености», в 55-м и 56-м выпусках, полемические заметки, направленные против издателя «Фрагментов безымянного», и с выражением сочувствия переслал их в Вольфенбюттель. Вернее, даже не так: он распорядился их скопировать и сам оплатил расходы.
Итак, эта «черная газетенка», как называл ее Лессинг, ибо такое определение подходило ей вдвойне и даже втройне — черная, как риза, черная, как злоба, черная, как зависть, — подала сигнал к травле. Здесь впервые стали травить не «безымянного», а самого Лессинга. Последовавшие за этим бесчисленные наскоки мелких писак во всех немецких государствах были, по сути дела, лишь подтявкиванием своры. Но уж если тебя обложили, значит, надо, не мешкая, обезвредить, с позволения сказать, вожака. А мелкие шавки пусть себе пока безнаказанно расползаются по углам. Яростная схватка стала неизбежна. Охотник был обречен превратиться в дичь. Звали его Гёце.
В Гамбурге Лессинг всегда обходился с этим человеком по справедливости, и Гёце это знал. Во времена театроборчества обер-пастора Лессинг отправился к нему домой и в долгой беседе терпеливо объяснил, что и комедия — смехом, и трагедия — потрясением могут возвышать и воспитывать людей.
Гёце знал безусловное правдолюбие Лессинга, и так же точно он знал отточенность его аргументов. Если же теперь он безо всякой нужды сделался врагом, то что ж, он сам выбрал вид оружия.
Есть такие деревья — чтобы увидеть их, Лессингу было достаточно распахнуть окно, — которые рвут свою кору, когда она становится им тесна. Подходящее сравнение? Вполне, вполне! Итак, внешняя оболочка немецкой духовности и немецкого сознания стала жесткой, хрупкой и слишком тесной для наступающих времен. Долой ее!
Как-то раз в Вольфенбюттель приехал профессор Эшенбург со своей молодой женой, чтобы собственными глазами увидеть, насколько его друг смирился с неизбежностью. Следуя намеку Лессинга, он привез детям — Фрицу и Энгельберту — с брауншвейгской ярмарки несколько оперенных мячей и к ним две биты, называемые ракетками, и мальчики тотчас ринулись с ними во двор, чтобы на лужайке поучиться этой популярной, модной теперь игре. Лессинг позвал их назад, потому что они забыли поблагодарить гостя.
— Выходит, я правильно выбрал подарок. Как они радуются! — смеясь, сказал Эшенбург, выслушал чинное «спасибо» Энгельберта и неуклюжие стишки Фрицхена, в которых «играть с мячом» рифмовалось с «благодарю вас горячо», и пожелал мальчикам вволю порезвиться на свежем воздухе.
— Но вот Мальхен, — сказала госпожа Эшенбург, — не тяжело ли ей вести хозяйство?
Мальхен побледнела и обратилась не к гостье, задавшей вопрос, а к Лессингу:
— Я прошу тебя, дорогой отец, не надо ничего менять. Быть полезной — это для меня не бремя и не обязанность, а удовольствие.
— Но, может быть, дорогая Мальхен, нам все же стоит присмотреть себе кухарку? — спросил Лессинг и задумчиво поглядел на шестнадцатилетнюю падчерицу. — Имея бесплатный стол, она будет получать тридцать талеров в год плюс несколько талеров чаевых и подарок к рождеству. Это нам по карману.
— Отец, дорогой мой отец, — ответила все еще бледная Мальхен, — почему вы все вдруг стали мной так недовольны?
— Что правда — то правда, — сказал Лессинг, погладил Мальхен по голове, — наша маленькая кухарка превосходно заботится о нас. Вот только боюсь, что тебе это не по силам.
Мальхен еще раз отвергла это предположение и отправилась с молодой госпожой Эшенбург на кухню, а Лессинг тем временем открыл высокий коричневый буфет и достал бокалы и бутылку вина.
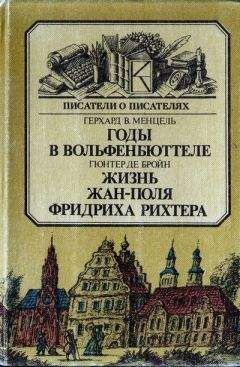
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)



