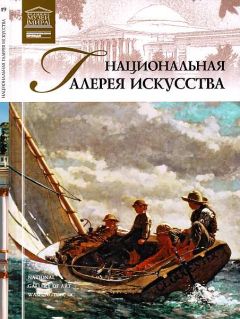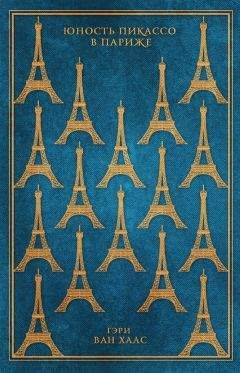сделал этот рисунок незадолго до смерти и, как пишет глава отдела рисунков и гравюр музея Прадо Хосе Мануэль Мантилья Родригес, он «лучше всего выражает дух Гойи последних лет его жизни» [117]: хотя суставы старика поражены артрозом, он не намерен сдаваться.
Гойя учился всю жизнь, причём в первую очередь у художников, живших до него, и у самой жизни. В музее Прадо хранятся его записные книжки с огромным количеством рисунков: здесь изображения скульптур Античности и Ренессанса, хлёсткие карикатуры, беглые зарисовки, наброски композиций для будущих картин и гравюр. В 32 года Гойя создал серию гравюр по мотивам основных картин своего великого предшественника – Диего Веласкеса. Таким образом он, с одной стороны, способствовал просвещению в Испании (гравюры продавались по шесть реалов и были куда доступнее, чем картины, украшавшие королевский дворец), с другой – учился у Веласкеса, на практике постигая его секреты.
Именно эта жажда непрерывного обучения восхищала в Гойе испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета. Он писал, что биографы Гойи напрасно не уделяют должного внимания «невероятному, почти не ведающему границ мастерству, владению любой техникой живописи, гравюры, рисунка» [118]. Мастерство, конечно, не врождённое: «Всю свою жизнь он озабочен тем, чтобы овладеть всеми возможными способами самовыражения» [119]. Гойя оставил нам множество картин, фресок, офортов – настолько новаторских, на сто лет опережающих время, что художники XX века, в частности сюрреалисты и экспрессионисты, видели в нём отца современного искусства.
Любопытно, что сильнее всего на живопись, кино и даже на литературу повлияли его работы, не предназначенные для посторонних глаз. В возрасте далеко за 70 глухой, уставший от придворной жизни, рассерженный политикой закручивания гаек художник расписал стены своего загородного дома «чёрными картинами» – жуткими, мрачными образами шагающей назад в средневековье Испании. Поскольку добровольная самоизоляция Гойи позволяла ему творить с полной свободой, в «чёрных картинах» особенно проявилось его новаторство.
Впрочем, и придворное искусство Гойи было революционным. Как писал французский поэт и художественный критик Теофиль Готье после путешествия по Испании, «искусство Гойи было столь же эксцентричным, сколь и его талант. Он хранил краски в тюбиках [120] и наносил на холст с помощью губок, метёлок, тряпок и всего, что попадало под руку… Картину «Второе мая» [121] {103} он написал ложкой вместо кисти» [122]. Более того, он наносил краску шпателем, как штукатурку, а отдельные мазки – большим пальцем. В общем, делал всё то, к чему в следующем столетии придут адепты сюрреализма и абстрактного экспрессионизма – в первую очередь живописи действия.
Гойя служил при дворе с 29 лет, в 40 стал королевским художником, а в 43 – придворным живописцем Карла IV. Мастер водил дружбу с передовыми людьми своего времени и был сторонником просвещения, в частности, упразднения инквизиции. В 1808 году после захвата Испании армией Наполеона Бонапарта инквизицию и впрямь упразднили, однако когда французы были изгнаны из страны и к власти в 1814 году пришёл Фердинанд VII, вернули, а вместе с ней – «охоту на ведьм» в виде преследования либерально настроенной интеллигенции. Это привело не только к гражданской войне, но и к волне эмиграции: несогласные с политикой Фердинанда VII уезжали во Францию, в Бордо.
Нужно было обладать большой смелостью, гибкостью мышления и внутренней свободой, чтобы в 78 лет эмигрировать – давно оглохшим и без знания языка, спустя четыре года после тяжелейшей болезни, с неофициальной женой и внебрачной дочерью. Однако под предлогом лечения на пломбьерских водах на востоке Франции Гойя эмигрировал в Бордо – столицу просвещённой испанской интеллигенции, где к тому времени поселились многие друзья художника. За четыре отпущенных ему года он научился создавать миниатюры на слоновой кости, создал серию работ в недавно изобретённой в Богемии технике литографии и предвосхитил импрессионизм: в его, вероятно, последней картине «Молочница из Бордо» {104} больше от конца XIX века, чем от его начала. Это свежий, светлый образ едущей на муле девушки в шали и головном платке, на плечах и голове которой играет солнечный свет, написанный широкими фактурными мазками, создающими складки и блики. Как и импрессионисты, Гойя пишет скорее не форму, а свет, не реального человека, а лёгкое весеннее впечатление о нём.
За тридцать лет до «Молочницы из Бордо», ещё будучи первым художником испанского короля, Гойя создал офорт с красноречивым названием «Сон разума рождает чудовищ» {105}. На нём изображён уснувший у стола художник в окружении сов и летучих мышей. Подарив экземпляр её величеству, Гойя снабдил гравюру пояснением: «Когда разум спит, фантазия в сонных грёзах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений». Единственный способ сохранять разум в состоянии бодрствования – не прекращать учиться. В этом секрет не только рождения искусства, но и вечной молодости. Гойя знал это и до самой смерти доказывал собственным примером.
Пикассо: как стать мастером широкого профиля
Пабло Пикассо в его молодые годы друзья называли маленьким Гойей. Это было связано с живописью «голубого периода» Пикассо, полной внимания к сирым и обездоленным, к скорби и несправедливости, как многие работы Гойи. Однако этим сходство двух великих испанцев не ограничивается. Как и Гойя, Пикассо всю жизнь пребывал в неустанном поиске новых инструментов и средств выразительности, отчаянно экспериментировал и открывал новые пути в искусстве, новые рубежи творческой свободы. Как и Гойя, Пикассо был в первую очередь ремесленником, оттачивавшим своё мастерство на всём, с чем соприкасался.
В ученические годы он в совершенстве освоил академический рисунок и живопись, а перебравшись в 19 лет в Париж, копировал манеру Дега, Тулуз-Лотрека и Ренуара. Когда ему было под 30, он познакомился с искусством Африки, Океании, Полинезии, Иберийского полуострова и с творчеством Поля Сезанна. Это привело к рождению революционного кубизма, с которого в 1907 году начался подлинный XX век в живописи.
С годами тяга к саморазвитию не ослабевала. В 1962-м, когда художнику был 81 год, его маршан Даниэль-Анри Канвейлер говорил, что «Пикассо не стоит на месте, всё время ищет что-то новое» [123]. Под этим подписался бы любой, кто близко знал его. К примеру, друг Пабло Илья Эренбург свидетельствовал, что «не встречал человека, настолько быстро меняющегося и вместе с тем настолько постоянного, верного себе» [124]. Неизменный Пикассо – это характер, ядро его личности, переменчивый Пикассо – это неудержимая тяга к саморазвитию, жажда пробовать новое.
По словам того же Эренбурга, «всю свою жизнь он учился: любит мастерство» [125]. В 40 лет Пикассо начал учиться обработке листового железа, в 50 вплотную занялся скульптурой, в 60 – литографией, в 70 пошёл в ученики к гончару. Когда мастер перебрался на Лазурный Берег, в Валлорис, и литография стала занимать слишком много времени (нужно было посылать