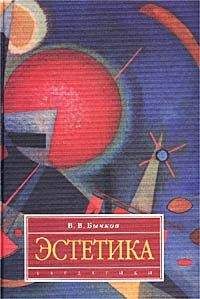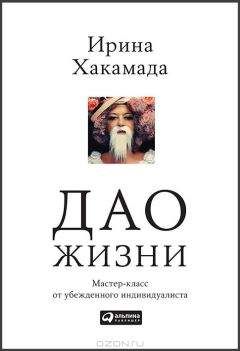Для фашизма и национал-социализма 1920–1930-х годов характерна эстетизация публичной жизни, использование новых политических символов, государственных мифов и культа вождя. Тем самым они «ярко выделялись на фоне “скучной” и “пресной” рациональности демократических государств» (с. 14). Не случайно сами диктаторы определяли себя как «художников» и «творцов». Гитлер видел в себе «великого демиурга всемирной Германии». Вожди воспринимали себя как архитекторов своих государств и в метафорическом, и в буквальном смысле. С начала 1930-х годов тоталитарные диктатуры начинают учиться друг у друга, подражать друг другу и все более уподобляться друг другу. В частности, общим для всех тоталитарных диктатур 20–30-х годов был культ молодого тела (с. 16).
Характерный для тоталитарных диктатур «культ красоты» проявлялся в различных формах: театрализации, сакрализации, мифологизации, производстве визуальной сверхреальности, и, наконец, в самом проекте создания «нового человека».
Театрализация нашла выражение в парадах, демонстрациях, празднествах и т.д. «Речь идет о театре, в котором вождь и массы являются в равной степени актерами и зрителями» (с. 15). Сакрализация означает, что тоталитарные государства включают в репертуар пропаганды религиозные символы и до известной степени представляют собой новую религию. Тоталитарная «литургия масс» (термин Эмилио Джентиле) вбирает в себя переосмысленные церковные ритуалы; аналог церковного календаря со свойственным ему годовым циклом праздников встраивается в годичный цикл государственной жизни, а религиозные прообразы проецируются на мирские персоны. Мифологизация позволяет свести историческую и политическую реальность к легко узнаваемым архетипам, коренящимся в коллективном сознании или в бессознательном того или иного народа (Свет и Тьма, Добро и Зло, Герой и Враг) (с. 15–16).
Визуальная сверхреальность формируется все возрастающим потоком образов: картин, фотографий, плакатов, но прежде всего – кинематографическими образами. Эти образы создают своего рода «вторую реальность» (с. 16).
Революционный авангард начала ХХ в. практически исключил саму категорию прекрасного из эстетического дискурса. Термин «красота» был табуирован. Положительные эстетические ценности располагались между двумя полюсами: утилитарной «вещи» и «модели для завтрашнего дня». Эту установку можно было бы свести к формуле «Красота – это наше будущее». Красота в традиционном смысле отвергалась как эстетический фетишизм, эскапизм, эрзац настоящей жизни, китч и украшательство (с. 19).
Маяковский отождествлял «красоту» со вкусами ушедшей в прошлое буржуазии либо нового советского мещанства («Сделайте нам красиво!»). У Бориса Арватова, создателя теории «производственного искусства» (прозискусства), слово «красота» почти всегда окрашено негативно и часто берется в кавычки. Пролетарское строительство «ищет красоту в себе самом». Искусство как «восполнение действительности» есть вредный самообман, «псевдожизнь, нужная буржуазии, но опасная классу реальных строителей» (с. 17).
Однако провозглашенный в 1930-е годы соцреализм как раз и стал «восполнением действительности». Слово «прекрасное» снова вошло в употребление. Красота больше не отождествлялась ни с пользой, ни с утопией. В сущности, это свидетельствовало об утрате утопического измерения. «Красота требовалась “здесь и теперь”, а не в неопределенном будущем» (с. 19).
Советское искусство возвращалось к «классическим» типам красоты, доступным и знакомым широким массам. Элитарные формы «негативной красоты», объявленные после 1917 г. революционным искусством, вытеснялись на обочину. Этот процесс был завершен в 1936–1937 гг., в ходе кампании против «формализма» и «натурализма». Словарь этой кампании, полагает автор, во многом сформировался под влиянием книги Макса Нордау «Вырождение» (1892)8, так же как словарь нацистской кампании против «вырожденческого искусства» (с. 20).
Болезненность модернизма предлагалось заменить натуралистично понятыми «здоровьем» и «нормой» соцреализма. Запрет на «натурализм» фактически означал табу на изображение неприглядных сторон советской действительности (с. 20). Табуировалась не только инвалидность, но и другие отклонения от гармоничной целостности тела. Например, почти невозможно было изобразить страдающее или больное, равно как и умирающее или исполненное откровенной сексуальности тело. Напротив, допустимым и желательным было изображение – в определенных пределах – страданий и умирания, когда речь шла о героических жертвах, павших за «святое дело» (с. 23).
Курс на построение социализма в одной отдельно взятой стране, в сочетании с образом «Родины-матери», привел к формированию нового образа женственности, не имевшего идеологических обоснований в марксизме-ленинизме. Женщина становится воплощением не только крестьянства, но и «народа» в целом (например, в скульптуре В. Мухиной «Рабочий и колхозница»).
Возрождается мотив материнства. «Картины, демонстрирующие отношения матери и ребенка, свидетельствуют о реабилитации образа Богородицы» (с. 23–24). В изобразительном искусстве появляются округлые женственные формы. В 1930-е годы реабилитируется не только красота женщины, но и красота природы. Пейзажная живопись уже не влечет за собой обвинений в эскапизме.
Привилегированная «новая буржуазия» предъявила спрос на внеполитичную, модную и даже роскошную женскую красоту, отличную и от семантики пролетарского, и от семантики крестьянского (с. 24). Именно таковы женщины на картинах А. Дейнеки «Женский портрет (в красном)» (1935) или «Mодель» (1935), где обнаженная дама возлежит на красной софе перед видом на центр Москвы.
Советские кинокомедии могут рассматриваться как откровенно «женское» искусство. Отличительные черты «советской красавицы» в кино – «натуральность», физическая сила, принадлежность к трудящемуся классу, а также русская национальность. Местом действия кинокомедий «Светлый путь» (1940) и «Свинарка и пастух» (1941) не случайно стала Всесоюзная сельскохозяйственная выставка: «это позволило связать <…> элемент женственности с символическим пространством утопического – или, лучше сказать, мифического – плодородия» (с. 25).
Позаимствованный из различных источников миф о женственности «оказался действенным, потому что в равной степени отвечал запросам и населения, и консолидировавшейся советской элиты». Новая эстетика 1930-х годов – эклектичная, классицистская, обращенная в прошлое – была гораздо ближе вкусам масс» (с. 26).
«Красота» оказалась центральной категорией эстетики послевоенного десятилетия. Критика руководствовалась формулой В.В. Ермилова: «Прекрасное – это наша жизнь». Эта формула перефразировала высказывание Чернышевского «Прекрасное есть жизнь». Однако Чернышевский имел в виду жизнь, «какова должна быть она по нашим понятиям». Напротив, для Ермилова прекрасное уже существует в советской жизни, «и чем реалистичнее наша литература, тем она романтичнее, – таков закон нашей эстетики». В идиллической по своей сущности эстетике соцреализма «красота совершенно онтологизируется: искусство представляет собой только отблеск красоты общества» (с. 27). Однако в кампаниях против «формализма», «космополитизма» и «низкопоклонства перед Западом» «официальная риторика красоты показала <…> свою агрессивную сторону. <…> Если социализм есть сама красота, то его враги олицетворяют политически безобразное» (с. 27).
Согласно Евгению Добренко, автору книги «Политэкономия соцреализма»9, эстетизация действительности играла решающую роль в советской культуре: «Эстетика здесь не украшение, но самая суть»; советское искусство – не пропаганда, а «производство реальности через ее эстетизацию», или, еще короче: «Социализм есть зрелище социализма» (с. 19).
Однако, полагает Х. Гюнтер, тоталитарное общество как «синтетическое произведение искусства» (термин Р. Вагнера) могло быть только незавершенным. «Временная подмена элементарных функций эстетическими влечет за собой весьма тяжелые последствия: ведь и “вытесненные” функции рано или поздно заявят о своих правах. <…> Тоталитарное “синтетическое произведение” оказывается при ближайшем рассмотрении грубо сшитым лоскутным одеялом, дыры в котором со временем прорываются все больше и больше. <…> Чем более заметными становятся эти недостатки, тем дороже обходится их компенсация» (с. 15).
Советская «сверхреальность» не могла существовать без постоянной поддержки механизма насилия, но даже при такой поддержке она не смогла заместить советскую реальность. «В сознании не только современных наблюдателей, но и современников соцреализма, друг с другом спорили знакомая по опыту реальность и симулякры. <…> Прекрасная видимость оставалась всегда незавершенной, неполной и стала распадаться, когда ее не могло уже больше поддерживать исходящее от диктатуры насилие» (с. 19–20).