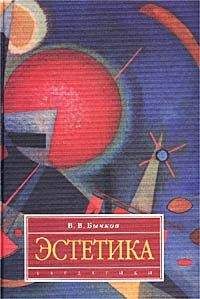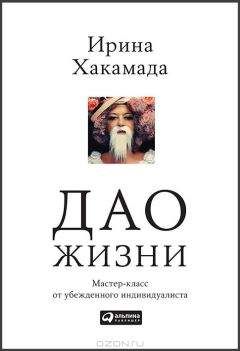В указе императора Мэйдзи от 4 сентября 1871 г. говорилось: «Нынешние одеяния <…> скроены ниспадающими и оставляют впечатление слабости. <…> Выглядя слабым, как можно управлять Поднебесной хотя бы один день?» (с. 249–250). Прежняя одежда, по своему происхождению китайская, подлежала замене на «другую». Хотя в указе говорилось про возврат к древнеяпонским традициям, на самом деле имелась в виду европейская одежда. Как и во многих других случаях, японские реформаторы, вводя новые обыкновения, говорили, что возвращаются «к истокам». Сам император стал появляться на публике почти исключительно в европейском платье, преимущественно в военном мундире. В традиционную одежду он облачался только во время молений синтоистским божествам, которые не имели публичного характера.
Мужчины носили европейское платье в общественных местах, но не дома. Европейская одежда не подходила для жизни «на полу» и требовала реформы интерьера японского дома. В первые годы правления Мэйдзи на улицах городов стали появляться женщины с короткими стрижками и в «мужском» платье (в брюках), на что власти отреагировали недвусмысленно: они запретили женщинам носить короткие прически и мужское платье. Простолюдины не стеснялись своей наготы в смешанных публичных банях, женщины кормили грудью младенцев прямо на улицах, но обнаженная женская шея считалась вызывающим знаком сексуальности (с. 251–252). В эпоху, когда мужская жизнь изменялась очень быстро, именно женщине предписывалось стать хранителем традиций. Это знаменовало серьезнейший поворот в сознании: раньше поведение и облик мужчины регламентировались в большей степени; средневековые руководства по этикету были обращены прежде всего к мужчинам (самураям) как гарантам неизменности порядка (с. 252).
Европейская одежда сама по себе не могла отделить японцев от других «азиатов», которых тогдашние японцы стали вслед за европейцами считать «отсталыми». Приезжая в Америку, японцы обнаруживали, что китайцы здесь тоже одеваются по-европейски, а сами американцы принимали японцев за китайцев (которых в Америке было гораздо больше). Японцы воспринимали это как оскорбление (с. 252). Большинство европейцев находило, что национальная одежда все-таки больше японцам к лицу. Переодеваясь в европейскую одежду, японцы хотели закамуфлировать свое тело, но оказалось, что в глазах европейцев она только подчеркивает «недостатки» (с. 253).
Реформа одежды дополнялась «реформой волос». Правительство запретило самурайский обычай выбривать лоб; в обиход вошла стрижка. Мужчины стали отращивать бороду и в особенности усы. Отсутствие усов стало восприниматься как признак «отсталости». Европейцы расценивали японское лицо как «детское» (ввиду гладкой и менее морщинистой кожи) или даже «женоподобное»; усы должны были «состарить» его, придать ему более «мужественный» облик. Литератор Тогава Сюкоцу, посетивший Америку и Европу в 1908 г., болезненно переживал свою «узкоплечесть», и только усы позволяли ему ощущать себя несколько «более широкоплечим». Однако и тут японцев ждало разочарование. С начала ХХ в. мода на усы и бороду идет на Западе (особенно в Америке) на убыль, растительность на лице становится достоянием людей пожилых, т.е. «консервативных», и «презренных» рабочих, так что усатые японцы, путешествовавшие в США, превращаются там в предмет для насмешек (с. 254).
Реформа причесок коснулась и женщин. Традиционные женские прически отличались сложной конфигурацией, и для сохранения их формы использовалось растительное масло. Европейцы же находили, что от головы японок исходит неприятный запах. Японские гигиенисты стали пропагандировать стрижку и частое мытье головы. Наиболее «передовые» японки кичились распущенными волосами. Вызовом обществу явился сборник стихов поэтессы Ёсано Акико (1878–1942)13, названный именно так: «Спутанные (распущенные) волосы» («Мидарэгами»). Эти стихи воспевали страстную «свободную» любовь, несовместимую с традиционной конфуцианской моралью (с. 254–255). Прежде женщины сбривали (выщипывали) брови, а аристократки еще и пририсовывали их тушью несколько выше. Этот обычай вызывал удивление европейцев и потому был признан нецивилизованным (с. 255).
Японцы считали свое тело не приспособленным к конкуренции с людьми Запада, прежде всего в военном отношении. Японский солдат был не в состоянии совладать с европейской амуницией. Одним из способов изменения габаритов тела была признана реформа диеты. В рацион стали входить молоко и мясо; сам император подал тому пример. Это был крутой разворот – ведь мясо млекопитающих традиционно считалось пищей «нечистой». Теперь же его разрешили есть даже буддийским монахам. Европейцы находили традиционную японскую кухню «пресной», говорили, что она надолго оставляет во рту «неприятный вкус». О моде на японскую этническую кухню не было и речи (с. 255).
Для пропаганды подвижного образа жизни императору Мэйдзи пришлось заняться конными прогулками – занятие, немыслимое для прежних государей, статус которых предполагал неподвижность – император уподоблялся Полярной звезде, вокруг которой вращаются звезды-подданные (с. 256). Утверждалось, что обладатели «слабого» и «больного» тела наносят вред не только себе – они доставляют беспокойство окружающим и, что еще хуже, делают страну бедной и слабой. «Таким образом, в лучших традициях конфуцианского подхода к телу оно не считалось “собственностью” самого человека – его предназначением было служение чему-то большему. Но если раньше объектом служения выступали родители, то теперь к ним прибавилась вся страна, символом которой выступал император» (с. 257).
Японкам предлагалось отказаться от прежней концепции красоты, предполагавшей «ивовый стан» и телесную «призрачность» (с. 256). Основанное в 1884 г. «Частное гигиеническое общество великой Японии» выдвинуло новый идеал женской красоты, вступавший в противоречие с прежним представлением о сексапильной и нефертильной красавице, для которой характерна анемичность и субтильность. Впрочем, в то время пропаганда «дородной» женщины не увенчалась успехом. Многие высокопоставленные деятели периода Мэйдзи были женаты на гейшах, самого императора окружали наложницы-аристократки, не имевшие ничего общего с новым идеалом красоты (с. 258).
Традиционная культура была ориентирована на «маленькое». Самураи совершали свои подвиги не столько благодаря богатырской силе, сколько благодаря силе духа. Постоянное нахождение на полу уравнивало разницу в росте, вальяжные позы, при которых тело максимально «заполняет» объем, не приветствовались и считались нарушением этикета. Телу предписывалось находиться в максимально «сжатом» и «сложенном» состоянии, чему идеально соответствовала церемониальная поза (сэйдза) – сидение «на пятках». Теперь же задача состояла в «распрямлении» японца, что знаменовало собой коренное переосмысление тела и его места в пространстве – как физическом, так и социальном. Для увеличения роста врачи и гигиенисты рекомендовали пересесть с циновок-татами на стулья, поскольку сидение на полу ведет к искривлению позвоночника и убыли в росте (с. 258). В японском доме стали появляться столы и стулья. Получило распространение «стоячее» приветствие – теперь приходилось не прижимать лоб к циновкам, а вставать со стула (с. 259).
На улицах городов появились конные скульптуры героев. «Возведенные на пьедестал, эти изображения образовывали вертикаль, которой Япония была ранее лишена» (с. 259). Подобное «распрямление» имело и еще одну важную психологическую составляющую. Прежде Япония знала только буддийскую скульптуру. По традиции Будда изображался в одной из трех поз: лежачей (момент достижения нирваны), сидячей (медитация), стоячей или шествующей (момент проповеди). В Японии наибольшее распространение получили статуи медитирующего, то есть физически пассивного, Будды. Новые герои нового времени – государственные деятели и военные герои – изображались стоящими, что должно было подчеркнуть их динамизм (с. 259).
Японцы издавна отличались чистоплотностью; в бане они мылись чаще, чем европейцы того времени. Считалось, что частое мытье способствует циркуляции энергии «ки» (кит. «ци») в организме. С распространением европейской гигиены упор стал делаться на то, что мытье с мылом уничтожает микробов. Белизна кожи традиционно служила в Японии признаком «красоты». Это было связано с сословными представлениями: крестьяне находились на воздухе круглый год, аристократы же вели по преимуществу «интерьерный» образ жизни. Если аристократ выходил из дому, над его головой несли зонт. Люди высокого положения и изысканного вкуса избегали солнечного света и предпочитали лунные ночи (с. 259).
В эпоху Мэйдзи, однако, белокожесть стала восприниматься прежде всего как показатель приближенности японского тела к европейскому. Реклама косметических средств всячески подчеркивала, что мыло и кремы способствуют белокожести и как бы «отмывают» и «отстирывают» темную японскую кожу до состояния европейской. «Таким образом, постулировалось, <…> что разница в цвете кожи имеет не столько расовый, сколько культурный характер» (с. 260).