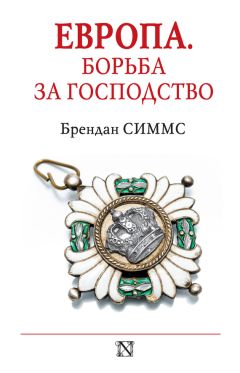Волна революционных перемен, захлестнувшая Францию в 1789–1790 годах, имела множество причин, но основной движущей силой революции являлось стремление улучшить французское общество, чтобы оно содействовало восстановлению величия Франции на европейской сцене. Главная роль в этом отводилась аристократии. Но за год реформаторы убедились в том, что аристократия не способна вспомнить о своем «воинском» предназначении. В начале августа Национальное собрание отменило все феодальные привилегии во имя создания социального порядка, основанного на заслугах, а не на праве по рождению. В конце месяца была опубликована Декларация прав человека и гражданина. В ноябре дошла очередь до первого сословия, которое также «пережило свою полезность»; декрет национализировал церковную собственность. Ожидаемые доходы от продажи церковных земель зафиксировали в ассигнациях, которыми оплачивали государственные расходы. В середине февраля 1790 года было запрещено монашество, а в июне официально отменен институт наследственного дворянства. Через месяц гражданская конституция духовенства подчинила церковь государству, в ноябре от священников потребовали поклясться в лояльности властям в соответствии с этим документом. Многие национальные и языковые меньшинства королевства – бретонцы, фламандцы, баски, каталонцы и немцы – подпали под пресс настоятельных призывов принять французский язык и французские обычаи. То же произошло с различными диалектными группами, особенно на юге и западе. Цель всех этих мер, как заявил революционер Эммануэль Сийе, заключалась в том, чтобы «собрать Францию воедино и свести все народы, ее населяющие, в единую нацию».[406]
Поначалу все случившееся не вызвало заметного интереса в крупных европейских странах. В целом переменам во Франции симпатизировали. Многие британцы верили, что французов вдохновила «славная революция» вигов, и потому предсказывали «торжество свободы» континентальному сопернику. В Потсдаме и Вене прусский министр Герцберг и император Иосиф II приветствовали победу принципов просвещенного правления. Насильственная реставрация монархической власти во Франции не входила в планы европейских правительств. «Без сомнения, – констатировал Кауниц в конце июля 1789 года, – мы не можем вмешиваться ни в коем случае».[407] Сама Германия оставалась относительно спокойной. На западе произошло несколько мятежей, но их быстро подавили, а также случилось восстание против епископа Льежского. В монархии Габсбургов, с другой стороны, складывалась по-настоящему революционная ситуация, этакий отклик на реформы Иосифа. К 1789 году планы императора по отмене крепостничества уже спровоцировали массовые волнения в Венгрии; в том же году ужесточение обращения с представительными институтами в австрийских Нидерландах привело к мятежу. Центробежные тенденции отражали стремление местных элит восстановить свое былое господство в противостоянии центральной власти, которая желала укрепить положение империи в европейской государственной системе.
Очень немногие в 1790 году соглашались с «Размышлениями о революции во Франции» Эдмунда Берка, который писал о нападениях на традиции, религию, собственность и «рыцарство», о революции «чувств, обычаев и моральных взглядов». В начале своего текста Берк замечал: «Мне кажется, что я присутствую при великом кризисе в делах не только Франции, но и всей Европы, а возможно, и не одной лишь Европы. Если учесть все обстоятельства, то окажется, что Французская революция – это самое удивительное из происходившего до сих пор в мире».[408] «Размышления» Берка стали не только литературной и политической вехой, но также и издательской сенсацией: было продано от 17 000 до 19 000 экземпляров этого трактата (а фактических читателей было еще больше), и в ответ на «Размышления» выпустили добрую сотню памфлетов других авторов.[409] В последующие годы Берк возглавил крестовый поход против «универсальной империи» якобинцев, выразителей «вооруженной доктрины», которую он считал не менее опасной, чем политика Людовика XIV. В особенности Берк опасался влияния французской революции на «центр Европы», то есть на Германию, – «этот регион соседствует и оказывает воздействие на все прочие», и там «разрушается августейшая ткань Священной Римской империи». Поэтому Берк напоминал о «законе соседства» и призывал европейские государства к интервенции в целях самообороны против Франции; он категорически отвергал идею невмешательства во внутренние дела суверенного государства как «ложный принцип закона наций».[410]
Главной причиной, по которой другие государства уделяли поначалу столь мало внимания кризису во Франции, являлись события в иных местах. Все соглашались только с тем, что революция уничтожила всякое влияние Франции в рамках европейской государственной системы. «По моему убеждению, самые умные головы Англии вряд ли предполагали, – заявил британский министр иностранных дел герцог Лидс вскоре после падения Бастилии, – и вряд ли хватило бы всех наших богатств на то, чтобы возникла ситуация, столь фатальная для нашего соперника, как та, вследствие которой Франция ныне обречена на сугубо междоусобные потрясения».[411] Пруссия также приветствовала падение старого режима – как удар по союзнику Габсбургов. В августе 1789 года, едва ли через месяц после падения Бастилии, прусский король решил воспользоваться текущим положением дел и напасть на Австрию в начале следующего года, если император Иосиф не уйдет с Балкан. Несколько месяцев спустя Пруссия провела интервенцию против мятежников в Льеже – не ради восстановления старого режима, но чтобы упредить австрийцев.[412] В январе 1790 года, когда Франция погрузилась еще глубже в хаос, Пруссия заключила наступательный союз с Османской империей и окружила Австрию с двух сторон. Общеевропейская война, которая казалась близкой накануне французской революции, теперь виделась неизбежной.
Между тем в Британии обсуждалась интервенция совершенно другого рода. В конце мая 1787 года группа парламентариев, врачей, священников и прочих учредила в Лондоне комитет Общества во имя осуществления отмены работорговли. Сторонниками общества во многом руководил усиленный религиозным чувством гнев в отношении к самому понятию рабства и особенно к «среднему этапу», то есть к перевозкам рабов через Атлантику. В середине апреля 1791 года парламент отверг законопроект Уильяма Уилберфорса о запрете работорговли, но этот вопрос, что называется, закрепился в политической повестке.[413] Рабы, конечно, не были пассивными «реципиентами» и не ждали милости от Запада. В августе 1791 года во французской колонии Сан-Доминго вспыхнуло восстание, во главе которого стояли чернокожие рабы с плантаций, возмущенные не только тем, что революция проявляла терпимость к рабству и отказом предоставить равные права gens de coleur,[414] но и отношением революционеров к королю и религии. Лидеры восстания считали себя африканскими племенными вождями, а не представителями народа. Возможно, оставленные в покое мятежные рабы сумели бы создать политическую систему, сходную с той, что существовала в традиционных рабовладельческих африканских королевствах, из которых они происходили; во всяком случае, они регулярно продавали чернокожих пленников испанцам и британцам.[415] Восстание доставило немало неприятностей европейским странам, особенно Британии и Испании, которые получали изрядный доход (и тем усиливали свое влияние в Европе) с рабовладельческих плантаций на Карибах, и Америке, которая опасалась, что пример Гаити воодушевит чернокожее население южных штатов. Взаимосвязь между рабством и международным балансом сил налицо.
События во Франции, таким образом, оставались на периферии внимания европейцев, пока не случились сразу две геополитические революции. Первая произошла в империи. Когда в феврале 1790 года скончался Иосиф II, на престол взошел Леопольд II, не только отменивший конфронтационную внутреннюю политику брата, но и намеревавшийся наладить дипломатические отношения с северным соседом. В июле 1790 года вместо войны друг с другом из-за планировавшегося Иосифом вторжения в Турцию Австрия и Пруссия подписали Рейхенбахскую конвенцию. Леопольд согласился остановить операции на Балканах и не требовать территориальных приобретений. Пруссия в свою очередь обещала поддержать кандидата Габсбургов на императорскую корону. Условия этого соглашения казались вполне безобидными, но сам факт австро-прусского сближения был подобен геополитическому землетрясению. Оно сулило немалую угрозу другим германским государствам, что опасались раздела Священной Римской империи между Габсбургами и Гогенцоллернами. Конвенция также подразумевала австро-прусское сотрудничество против Франции, которая виделась ослабленной. Пруссия начала составлять планы по аннексии Юлих-Берга[416] и по компенсации владельцам тех земель за счет территории Эльзаса.