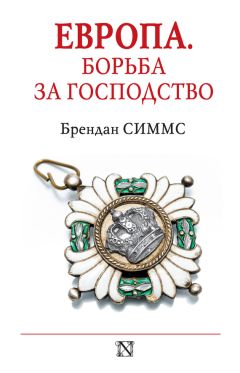Другая геополитическая трансформация состояла в радикальном изменении французской большой стратегии. Главным врагом в глазах революционеров стала не Британия, а снова Австрия.[417] Франция вновь перевела взор с Английского канала на восток. Но если Бурбоны пытались расширить монархию за счет особенностей имперского государственного устройства и обеспечить обороноспособность границ,[418] то новая французская геополитика подчеркивала необходимость защиты «естественных границ» – Пиренеев, Альп и Рейна. В начале мая 1790 года давний противник Австрии Клод-Шарль Пейссоннель, обращаясь к Обществу друзей конституции, сказал, что конечной целью Франции должно быть «закрепление ее границ вплоть до Рейна, ибо это рубеж, установленный самой природой». В итоге западные области Священной Римской империи, в особенности Рейнская область и Пфальц, оказались на передовой. Новые власти также подчеркивали важность революционной солидарности в Европе. Отчасти это подразумевало экспорт революционных ценностей, но еще отражало глубоко укоренившуюся веру в то, что революция во Франции никогда не будет в безопасности в Европе, где доминируют «государства со старым режимом». В письме к парижскому Дипломатическому комитету за июль 1791 года говорилось: «Когда в мире не останется тиранов, нам больше не придется бояться войны».[419]
Эти настроения нашли выражение в революционной политике в отношении империи.[420] С точки зрения идеологии рейх олицетворял все то, что было ненавистным для нового порядка: реакционную «смесь» мелких церковных территорий и малых княжеств. Революционеры отреагировали презрительными усмешками, когда имперские нобили и священнослужители Эльзаса обратились к сейму, а затем и к императору с протестом против отмены феодальных и клерикальных привилегий (последнее предусматривалось гражданской конституцией духовенства). Хуже того, французские эмигранты, помышлявшие о реставрации прежнего порядка, нашли пристанище при княжеских дворах Западной Германии, особенно у Кобленца. Убеди они одно или два крупных германских княжества выступить на их стороне, революция оказалась бы в смертельной опасности. В августе 1791 года показалось, что страхи сбываются: австрийцы и Пруссия подписали в саксонском Пильнице соглашение и выпустили совместную декларацию, где выражалась озабоченность состоянием дел во Франции.[421] Радикальный журналист и позднее министр иностранных дел Пьер Лебрен назвал этот документ «декларацией войны деспотов, объединившихся против свободы наций».[422] Если кампания начнется, писал Томас Пейн маркизу Лафайету в феврале 1793 года (он словно забыл свои былые возражения против экспорта свободы), то «есть надежда, что она завершится войной против немецкого деспотизма и установит свободу в Германии. Когда Францию окружат революции, она окажется в мире и безопасности».
Внешнее давление сильно повлияло на французскую внутреннюю политику. Поначалу революционеры довольствовались тем, что оставили внешнюю политику заботам королевского двора. Летом 1790 года, однако, спор британцев и испанцев за залив Нутка и за владение северо-западным побережьем Тихого океана заставил их изменить решение. В мае новый министр иностранных дел Монморан сообщил Национальному собранию, что король готов соблюсти «семейный пакт» и прийти на помощь родичам-Бурбонам. Это сообщение вызвало гнев парламента, отчасти потому, что, по мнению многих, король не имел права так поступать без одобрения собрания, а отчасти потому, что не все признавали династические обязательства старого режима; к тому же парламентарии опасались, что король воспользуется войной как прикрытием и восстановит в стране деспотизм. Большинство полагало, что республиканская Франция должна стать мирной страной и жить в гармонии с другими республиками; лишь меньшинство, например, депутаты Жан Сифрен Мори и барон Малуэ, предостерегало, что «деспотизм и свобода ведут к схожим эксцессам».[423] В конце месяца собрание приняло декрет, уточнявший взаимоотношения исполнительной и законодательной власти. Король по-прежнему мог назначать министров, дипломатов и армейских офицеров, однако вопросы войны и мира у короны отнимались, их следовало выносить на обсуждение народа. Никаких завоевательных войн, никаких действий, затрагивающих свободу других народов, отныне не допускалось; министров, нарушавших эти принципы, надлежало преследовать по закону. В целом революционеры требовали большей прозрачности внешней политике, дабы порвать с таинственностью и некомпетентностью дипломатии старого режима.[424] Возникла новая геополитика, которая оспаривала основы легитимности в рамках государственной системы.
В начале ноября 1791 года Национальное собрание постановило, что все эмигранты должны вернуться в страну, иначе им угрожает конфискация собственности. Король наложил вето на этот декрет. Тогда собрание решило нанести превентивный удар по эмигрантам и потребовало от короля настоять на их изгнании со дворов германских князей вдоль западной границы империи. В противном случае Франция осуществит эту операцию сама, нарушив, если понадобится, суверенитет империи. Король согласился на этот шаг, поскольку увидел в нем последнюю возможность восстановить свою прежнюю власть. Успешная война могла сплотить народ вокруг короны, тогда как поражение было чревато как минимум провалом революции. При этом Людовик тайно призывал ведущие европейские страны вмешаться и восстановить его полномочия. Королева и барон де Бретейль поддерживали его намерения и вели секретную переписку с Веной. В конце января 1792 года французы предъявили Австрии ультиматум, а в начале марта революционер «ястребиного толка» генерал Шарль-Франсуа Дюмурье стал министром иностранных дел. В середине следующего месяца Австрии объявили войну – поводом стало вмешательство императора во внутренние дела Франции, причем особо подчеркивалось его «желание поддержать притязания германских князей, владеющих землями во Франции», что признавалось «прямым оскорблением суверенитета французского народа». Пруссия присоединилась к войне 13 июня. В конце июля 1792 года командующий силами коалиции герцог Брауншвейгский в своем манифесте назвал защиту «германских князей в Эльзасе, Лотарингии и во всей Германии» более важной, чем подавление «не менее беспокоящей нас… анархии во внутренних областях Франции». Разумеется, эти цели были взаимосвязаны.[425] Так начались французские революционные войны.[426]
Для Франции схватка была одновременно идеологическим и стратегическим соперничеством; в сознании многих французов эти два фактора были неразделимы. Декларация, которой сопровождалось объявление войны Австрии, отвергала «всякое стремление к завоеваниям» и подчеркивала, что Франция никогда не применит силу «против свободы другого народа.[427] В середине ноября 1792 года Конвент, который «наследовал» Национальному собранию, принял декрет о братстве и помощи другим народам, предлагавший «братство и содействие всем народам, которые пожелают восстановить свою свободу; исполнительная власть вправе отдавать генералам приказы, необходимые для содействия таковым народам и для защиты граждан, которых преследовали или могут преследовать за дело свободы».[428] Наиболее значимой в этом отношении представлялась Бельгия, ближайший «промежуточный пункт» для наступления Австрии и Пруссии; географическое положение этой страны не предполагало «естественных границ», а местные революционеры взывали о помощи. Конвент намеревался, согласно Шарлю-Франсуа Дюмурье и Пьеру Лебрену, последовательно министрам иностранных дел с марта 1792-го по апрель 1793 года, изгнать Габсбургов из Нидерландов и установить там дружественную якобинскую республику. «Если люди не в состоянии совершить революцию собственными силами, – сказал Пьер Жозеф Камбон, – необходимо снабдить их средствами и действовать в их интересах, применяя революционную силу».[429]
Россия пока оставалась в стороне. После 1791 года Екатерина не упоминала о своей роли гаранта целостности Германии.[430] Царицу занимали дела ближе к дому; моральная поддержка австро-прусского вторжения во Францию во многом объяснялась желанием воспользоваться слабостью Польши. Здесь следовало поспешать, поскольку польская программа реформ привела к принятию в мае 1791 года конституции, призванной обеспечить выживание Речи Посполитой в недружелюбной международной обстановке. Будучи далека от французских революционных идей, вопреки утверждениям Екатерины, польская конституция предусматривала для страны наследственную саксонскую монархию. Отменялись liberum veto, конфедерация и анархическое «право сопротивления», армия увеличивалась и модернизировалась. Екатерина возражала против конституции именно потому, что документ пытался превратить Польшу в могучую монархию, способную защитить себя от хищников-соседей. В конце января 1793 года Екатерина убедила Фридриха-Вильгельма II отказаться от поддержки Станислава и произвести второй раздел Польши. Пруссия аннексировала огромный кусок Западной Польши, а Россия забрала значительную часть территории на востоке. Выборная монархия и liberum veto были восстановлены. «Угрюмая» сессия польского сейма должным образом одобрила эти решения в сентябре 1793 года. Спустя год поляки восстали под предводительством харизматичного лидера Тадеуша Костюшко. Восстание было подавлено. В 1795 году австрийцы, русские и пруссаки окончательно поделили Польшу. Это была наглядная иллюстрация участи государства, население которого не может сплотиться ради собственного выживания.[431]