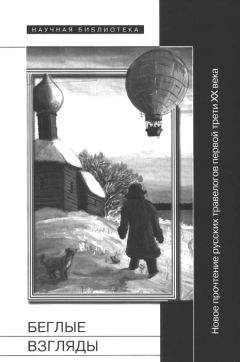Марина Балина пишет:
Путевой хронотоп продолжает служить организационным элементом жанра, но перестает быть его структурной основой. В путевом очерке теперь все подчинено одному мифу — мифу творения[515].
Вторым решающим следствием критики литературы путешествий, ориентированной на факты, была наряду с отсутствием вымысла дегеографизация пространства[516] и связанное с этим развитие уже упоминавшейся пространственной модели, которую я понимаю как специфическую модель фронтира (frontier).
Географическое пространство предстает недифференцированным с семиотической и семантической точек зрения и трансформируется в пространство повсеместных эквивалентностей. На мой взгляд, это заходит настолько далеко, что и сильно перегруженное центрами сталинистское пространство релятивируется в символическом смысле, потенциально, любое место может быть эквивалентно Москве[517]. В соответствии с этим всюду могут находиться и границы-фронтиры (frontier).
Ведь в конечном итоге все эти изображения путешествий задуманы как показательные (т. е. по своей сути они противоречат фиксации случайности в травелогах). Ни процедура «frontier», ни генерация героев (тоже часть названной процедуры) не связаны необходимым образом с такими экстремальными пограничными зонами, как Арктика, Дальний Восток или горные вершины: в принципе они возможны в любом другом месте.
Хотя именно Арктика характеризуется как «заповедник героев»[518], на Дальнем Востоке достигается то же самое; советский героизм не связан с каким-либо определенным местом, как это подчеркивается в текстах, посвященных этим местам: «Социалистический героизм состоит в том, что человек при любых условиях остается на своем посту и делает порученное ему дело», — цитирует Сельвинский командира челюскинской экспедиции Шмидта (прелюд 5).
Я считаю, что советское пространство является пространством-фронтиром и соответственно состоит из бесконечного множества возможных пространств такого же рода. В принципе я лишь немного переформулирую тезис Евгения Добренко, который назвал советскую культуру 1930-х годов «культурой воспаленных границ» и пояснил: «Границы оказываются здесь священными не в меньшей мере, чем площадь, ибо Красная площадь — только символ пространства, а граница — самое это пространство»[519].
Если говорить о границе «frontier», то, как показывает анализ Добренко, в ней нет ни специфики «границы», ни различия между «границей» и «периферией».
Этот чисто идеологический, дегеографизированный концепт пространства снова находим у Павленко («На востоке»):
[…] все понимали, что границей Союза являлась не та условная географическая черта, которая существовала на картах, а другая невидимая, но от этого еще более реальная, которая проходила по всему миру между дворцами и хижинами[520].
И если пространство относительно его внешних границ воспринимается как пространство frontier, потенциальная глобальная экспансивность фронтира существенна для этого понимания пространства: при каждом переходе границы или ее перманентной отмене подчеркивается ее глобальный масштаб и глобальное значение пространственных событий. Если же речь идет о советском пространстве — то по преимуществу о «земле» в целом. Это демонстрирует, например, следующая цитата:
…Котя пошел во льды потому, / Что очень любил географию. / Бывало, уроки как-нибудь, / Но глобус звучал, как музыка: / «Беринг», «Аляска…», «Северный Путь…»[521].
В конечном итоге дело было в том, чтобы выделенные регионы превратить в эквивалентные друг другу и тем самым все географические пункты в целом снабдить символическим статусом потенциальных мест-frontier. На это указывают как теоретические тексты, так зачастую и отрывки из литературных произведений. Особенно показательны здесь рассказывающие о путешествии в Афганистан «Записки спутника» (1920). Потому они и могли выдержать соседство с «замечательным произведением» Ларисы Рейснер «Афганистан» (1921), что их темой был не столько Афганистан, сколько «становление личности спутника революции». Иными словами, путешествие как предмет изображения путевого очерка объявляется здесь вышедшим из употребления и поэтому весь жанр имплицитно теряет «почву»[522].
Самым популярным героем арктических текстов этих лет был Амундсен, то и дело упоминаемый как героический предшественник советских покорителей Северного полюса[523]. То же в «Челюскиниане» Сельвинского[524] или в поэме грузинского поэта Тициана Табидзе «Роальд Амундсен» (1936). В этом тексте геройство Амундсена потому должно было стать близким народу (особенно грузинскому), что покорение полюса уподобляется восхождению альпинистов на снежные вершины: «Если нас настигнет в горах снежная вьюга… […] каждый вспомнит Амундсена как друга…»
Благодаря этому сравнению, с одной стороны, еще раз актуализируется и эксплицируется мифическое понимание полюса как «вершины мира», с другой же, его покорение одновременно лишается своей уникальности — в известном смысле она становится относительной:
…возвышаясь над миром, / Молча, / Верю я, сохранит навек/ О человеке с коленом волчьим / Воспоминание — Казбек. / Амундсен, / Знаю, ничья другая / Участь твоей не равна. / Но хочу / Вспомнить двоих, / Пополам ломая / Грез моих ледяную свечу. / Если в горах одолеет вьюга, / Снегом осыплет, / Каждый из нас / Амундсена вспомнит, / Как друга, / Мерзлые слезы заколют глаз[525].
Самим героям все равно, какой регион они «покоряют», важно, что условия экстремальны: «Но Звереву было все равно — / Африка или Арктика. / Он шел во льды, как в Гороно. / Его посылала партия»[526].
Но, несмотря на удачность сравнений и сходство действительных путешествий в горах, в Африке или в Арктике, конкретные пункты, в силу указаний на них, еще и потому приобретают относительный характер, что, собственно говоря, путешествие не было необходимо. Чтобы воплотить героизм покорителей Арктики и полюса, чтобы разделить его, достаточно лишь художественного изображения или средств массовой информации: они в состоянии передать непосредственное впечатление от полюса:
Столь же сверкающ / И прекрасен / Был ли спектакль / В театре когда? / Будто дышали / «Малыгин» и «Красин», / В зале ломая / Настилы льда; / Полюс вплотную / К лицам придвинув[527].
У Сельвинского аутентичное впечатление от Арктики передается по радио или посредством поэзии:
Точно по радио Арктика нам / В кровь пургу прививала[528].
Что край тогда считается открытым, / Когда поэт его впитает в глаз, — / Тогда народы лирикой поэта, / Переживая за струной струну, / Объятые игрой теней и света, / Охватывают новую страну; […] Поэзия сама земное лоно / Для тех, кто мир увидеть не смогли…[529]
Намерение полностью заменить и компенсировать нарративной репрезентацией настоящие путешествия (которые, как было сказано, за исключением «командировок», были практически невозможны) также[530] очень сближало травелоги 1930-х годов с записками средневековых пилигримов. Уже Синявский[531] и Лотман[532] указывали на компенсирующую функцию записок паломников, которые несли религиозно-сакральное содержание, а также являлись результатом амбивалентного отношения средневековой культуры к практике путешествий.
Привлекательной становится возможность отказаться от настоящего путешествия и вместе с тем получить частичное впечатление от него. Так, у Сельвинского и герой, и автор «впечатление» от путешествия получают вместе с народом — то есть с адресатом текста, с которым они «сплавлены», и изображаются как одно целое:
Высоко идут водяные пары […] / Но выше паров и вьюги соловой / Родное, близкое имя — «Шмидт»! / И если он тихо скажет слово, / Кажется — родина говорит… / […] Чем выше полет душевного роста людей, ведущих вперед, / Тем больше похожи они на народ[533].
Рефлектирующий автор в самом конце поэмы оказывается эквивалентным герою:
Я жил народом — и в меня проник / Его могучий дух преодолена / […] Я жил народом! И пою в дыму / Всей силою своей поэтской меди, / Что, все пределы посвятив ему, / Мы обретаем мир в его бессмертья[534].
Таким образом преодолевается и исчезает самая большая и самая драматическая дистанция между ними.
VII. Особая модель: трудовой лагерь как «цель путешествия»
Особый случай советской литературы путешествий середины 1930-х годов, оказывающийся при ближайшем рассмотрении совсем не исключением, а настоящей парадигмой, демонстрирует изданная под редакцией Горького, Авербаха и Фирина книга «Беломорско-Балтийский канал». Как известно, в ней бригада из именитых современных писателей, базируясь на материалах своего путешествия-инспекции, изобразила историю построения Беломорканала лагерными заключенными. Как «травелог» эта книга может оцениваться в двойном смысле: с одной стороны, поскольку там речь идет о путешествии бригады, и, с другой — поскольку лагерный труд заключенных на стройке понимается как «командировка» и сравним с любым другим путешествием, имеющим трудовое задание. Именно этот второй аспект представляется в данном случае особенно интересным. Внимательное прочтение показывает, что выделение этого аспекта является важной целью нарративной стратегии текста.