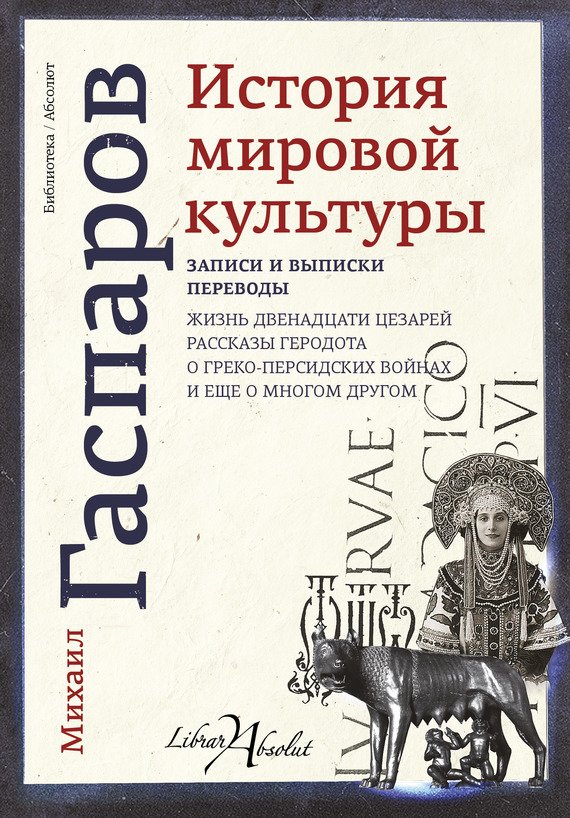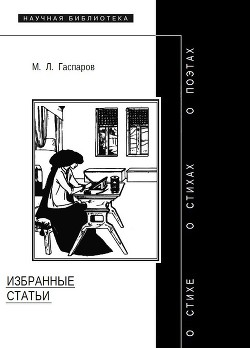на иностранных языках не говорю, занимаюсь только поэтикой (пусть даже не только русской), а это сейчас наука не модная. А в политические беженцы не гожусь: публицистом не был. («Конформист»!) К тому же – от себя не уйдешь. Каждый увозит свои проблемы с собой. Да еще нарастают новые. Так что не вижу в эмиграции смысла.
– Если выбирать, в какой стране и в каком столетии работать, что бы Вы выбрали?
– Я немного историк и знаю, что людям во все века и во всех странах жилось плохо. А в наше время тоже плохо, но хотя бы привычно. Одной моей коллеге тоже задали такой вопрос, она ответила: «В двенадцатом». – «На барщине?» – «Нет, нет, в келье!» Наверное, к таким вопросам нужно добавлять: «…и кем?» Тогда можно было бы ответить, например, «камнем».
– Вы пользуетесь компьютером в своей работе? Как вы относитесь к интернету? Стало ли легче работать с появлением новой техники?
– Считать стало легче: я работал сперва на конторских счетах, потом на арифмометре, потом на калькуляторе. Читать нужное стало легче с появлением ксерокса. Компьютер у меня есть: на нем печатать удобнее, чем на пишущей машинке. А интернет наступил слишком быстро, я еще не успел к нему привыкнуть. Отношусь я к нему с большим уважением – именно за то, что он, говорят, дает быстрый доступ к нужным книгам. Это хорошо: на всей моей памяти нас, филологов, снабжали заграничной научной литературой очень плохо. Писать стало легче: из‐за старости голова вмещает меньше, это принуждает писать большие статьи не целиком, а по кусочкам, а это легче делать на компьютере, чем на пишущей машинке. Думать – легче не стало.
– В чем, на Ваш взгляд, состоит задача филологии, филолога? В чем назначение филолога?
– Именно в том, чтобы понимать чужие культуры – особенно прошлые, чтобы лучше знать, откуда мы вышли и, стало быть, кто мы есть. Археолог понимает их по мертвым вещам, филолог по мертвым словам. Это трудно: велик соблазн вообразить, что эти слова – живые, и понимать мысли и чувства чужой культуры по аналогии с душевным опытом нашей собственной культуры. Ребенку кажется, что если да по-русски значит «да», а по-немецки «там», то это неправильно. Легко объяснить ему, что это не так, но гораздо труднее объяснить взрослому, что любовь по-русски и любовь по-латыни – тоже очень разные вещи. Вот этим и занимается филология: отучает нас от эгоцентризма, чтобы мы не воображали, будто все и всегда были такие же, как мы. Мой покойный товарищ С. С. Аверинцев хорошо писал об этом в самой первой своей публичной статье, которая называлась «Похвала филологии».
– Ваше мнение о современной филологии?
– Об античной нашей филологии не скажу ничего, кроме хорошего: молодых античников сейчас учат гораздо лучше, чем пятьдесят лет назад учили нас. К нам тогда проблемы мировой науки доходили с пятидесятилетним запозданием, а к ним теперь доходят примерно с двадцатилетним, это уже нормально. А о литературоведении вообще? После конца советской идеологии образовался идеологический вакуум, в него хлынули новейшие западные постструктуралистские моды вперемешку с воспоминаниями о русской религиозной философии, образовался иррационалистический хаос; я не умею использовать это в своей работе, поэтому вряд ли имею право о нем судить.
– Как Вы относитесь к идее выбросить из школы филологию и, в частности, анализ стихов: пусть дети просто читают художественную литературу?
– «Просто» читать – совсем не просто: даже взрослый обычно не может дать себе отчета, почему ему нравится или не нравится такое-то стихотворение. Когда школьник спрашивает: «А почему я должен интересоваться Пушкиным?» – то ответить ему очень трудно. Когда человек не понимает, что и почему ему интересно, то ему трудно искать новые книги, которые могли бы оказаться ему тоже интересны, и он начинает читать только привычное или вовсе перестает читать. Конечно, тем, у кого от природы тонкий художественный вкус, это не грозит, и учиться анализу им не нужно. Но таких мало; у меня, например, такого вкуса нет. Вот таким, как я, я и хочу помочь.
– Применение точных методов в литературоведении – хорошо ли это, не убивает ли это живое целое, разлагая его на части?
– А вы уверены, что Пушкин для вас – живое целое? Пушкин писал не для нас, мы воспринимаем из сказанного им лишь малую часть, а остальное дополняем своим воображением.
– Почему часто приходится слышать от молодежи: «Не люблю Пушкина»?
– Потому что мы часто подходим к нему не с теми ожиданиями, на которые рассчитывал Пушкин. Мы в ХX веке привыкли к поэзии ярких контрастов, а Пушкин – поэзия тонких оттенков. Конечно, если она не дается, Пушкина можно просто отложить в сторону; но если мы научимся читать по оттенкам, то наш мир станет только богаче. Беда в том, что именно этому школа нас не учит: она еще не привыкла, что Пушкин от нас отодвинулся на двести лет, что его поэтический язык нужно учить, как иностранный, а учебники этого языка еще не написаны. Вот филологи их и пишут по мере сил.
– Я сказал: «подходим не с теми ожиданиями». Что это значит? Вот Евгений Онегин получил письмо от Татьяны: чего ждали первые пушкинские читатели? «Вот сейчас этот светский сердцеед погубит простодушную девушку, как байронический герой, которому ничего и никого не жаль, а мы будем следить, как это страшно и красиво». Вместо этого он вдруг ведет себя на свидании не как байронический герой, а как обычный порядочный человек – и вдруг оказывается, что этот нравственный поступок на фоне безнравственных ожиданий так же поэтичен, как поэтичен был лютый романтизм на фоне скучного морализма. Нравственность становится поэзией – разве это нам не важно? А теперь – внимание! – Пушкин не подчеркивает, а затушевывает свое открытие, он пишет так, что читатель не столько уважает Онегина, сколько сочувствует Татьяне, с которой так холодно обошлись. И в конце романа восхищается только нравственностью Татьяны («я вас люблю… но я другому отдана»), забывая, что она научилась ей у Онегина. А зачем и какими средствами добивается Пушкин такого впечатления – об этом пусть каждый подумает сам, если ему это интересно.
– Почему переводы на близкородственные языки – например, «Евгений Онегин» на украинском – для нефилолога звучат как пародия?
– Потому что и не в переводе непривычный русский человек воспринимает украинский как испорченный русский. Как с этим бороться? Разрушать непривычность: время от времени показывать русскому человеку хорошие украинские стихи с русским переводом, чтобы он