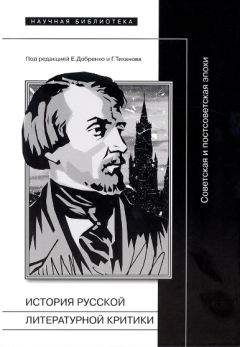…Если они (крестьянские писатели. — Е.Д.) переходят на точку зрения пролетариата, то какая разница между этими крестьянскими писателями и писателями пролетарскими? Во-первых, та, что процесс перехода есть не кратковременный момент, но длительный период, во-вторых, та, что писатели крестьянские не могут не отражать известных сомнений, колебаний и даже шатаний крестьянства, что они, в-третьих, неизбежно будут отличаться и отличаются существенными стилевыми особенностями[660].
Переломным во всех отношениях стал для крестьянской литературы расширенный пленум ЦС ВОКП 15–17 мая 1928 года, принявший «Платформу крестьянских писателей». Если раньше политические требования к членам Союза не предъявлялись, то теперь они стали основными. Платформа по-новому определяла статус крестьянского писателя:
Критики и историки литературы, чуждые марксистскому методу в литературе, продолжают по традиции говорить о писателях из народа вообще, именуя крестьянскими одинаково: и махрового певца кулачества, и пролетарского писателя деревни, что явно неверно по существу […] Не всякий писатель, пишущий о крестьянстве, является подлинно крестьянским писателем. Крестьянскими нужно считать таких писателей, которые на основе пролетарской идеологии, но при помощи свойственных им крестьянских образов в своих художественных произведениях организуют чувство и сознание трудовых слоев крестьянства и всех трудящихся в сторону борьбы с мелкобуржуазной ограниченностью — за коллективизацию хозяйства[661].
Согласно платформе, крестьянскими не являются не только те писатели, которые «выражают идеологию и чаяния кулачества», но и те, которые «в эпоху строительства социализма […] продолжают по традиции перепевать дореволюционные народнические мотивы, пассивно воспринимать и отображать природу, идеализировать старую жизнь и старые деревенские порядки: религию, собственность, национализм». Оказывается, что отличие крестьянских писателей от пролетарских «лежит не в идеологической области. Своей особой идеологии, отличной от марксистско-ленинской, крестьянские писатели иметь не должны. Крестьянский писатель, осознавший себя в области идеологии до конца, должен становиться пролетарским писателем деревни»[662].
Речь вновь шла о размежевании и компартментализации литературы. Эта универсальная стратегия культурной политики эпохи первой пятилетки была направлена на раскол существовавших групп в целях монополизации культурного поля поначалу РАППом, а затем, с 1932 года, когда почва была готова, партийными органами непосредственно. Попутно заметим, что для критики эта ситуация имела специфические последствия: до 1929 года она служила в основном орудием межгрупповой борьбы, тогда как теперь превратилась в орудие борьбы внутригрупповой.
Положение до 1929 года очень точно описал Мих. Карпов:
Еще год назад некоторые из руководителей РАПП […] утверждали, что творческих путей у крестьянской литературы нет, — творческие пути есть только у пролетлитературы. Странно, в стране со стомиллионным крестьянским населением и вдруг не может быть крестьянской литературы! Положение было таково: наиболее талантливая часть крестьянских писателей являлась (да и сейчас является) не только членами ВАПП, но и активными организаторами пролетлитературы. ВАПП считает писателей этих — пролетарскими, работающими над крестьянским материалом. А крестьянскими писателями считали Клюева, Есенина и им подобных. Деевскую организацию самоучек вполне справедливо не считали писательской организацией. Крестьянские писатели, идеологически менее устойчивые, вступали в союз писателей и объединялись в собственные кружки. И в результате за 12 лет революции только первый съезд ВОКП[663].
Такое положение объяснялось тем, что при «деевском руководстве» «кружок самородков питался народничеством, культивируя крестьянскую сословность», а также пережитками пролеткультовской идеологии, которая опиралась на идею «чистой пролетарской культуры»[664].
Между тем «пережитки пролеткультовской идеологии» оставались весьма сильными в РАППе, который являлся, по сути, прирученным властью Пролеткультом. Власть же была заинтересована в «борьбе на два фронта» — позиционируя себя в качестве арбитра, стимулируя расколы и симулируя некую принципиальную «борьбу идей», — а потому критиковала как правый уклон (тех, кто не видит разницы между Клюевым и Дорониным), так и левый (тех, кто говорит о слиянии колхозных писателей с пролетарскими): «Для правильной литературной политики необходимо видеть не только баррикаду между буржуазно-кулацким и колхозным секторами, но и границу, отделяющую последний от пролетарского авангарда»[665]. Однако эта «граница» была утеряна окончательно.
Если размежевание с попутчиками было задачей политически ясной, то с пролетарскими писателями — во всех отношениях проблематичной. «Идеологический багаж» попутчиков был неприемлем: «попутчики — это мужиковствующие интеллигенты, а не крестьянские писатели […] Попутчик — это дачник»[666]. Отмежевание же от пролетарских писателей проходило куда сложнее, поскольку идеологический момент был определяющим и поскольку именно в этом отношении отличий не наблюдалось:
…От пролетарских писателей крестьянские отличаются отнюдь не идеологией. Своей особой идеологии у крестьянских писателей, отличной от марксистско-ленинской, быть не может. Крестьянский писатель, если он вполне осознал себя и свое творчество, в идеологическом отношении становится уже пролетарским писателем деревни. Он пролетарскими глазами смотрит на деревню, воспринимает ее, и при помощи крестьянских художественных образов, которые живут в нем, ее отображает[667].
Разница оказывалась, таким образом, сугубо стилистической.
Не способствовала прояснению ситуации и позиция рапповцев. Авербах писал:
Крестьянство лишено возможности иметь свою классовую крестьянскую литературу. Консервирование мелкобуржуазных идей, навыков и привычек неизбежно вело бы по пути Клычковых и Клюевых. Но это было бы путем не к классовой крестьянской культуре, но к окончательному подчинению буржуазной культуре. Гегемония пролетарской культуры обеспечивает возможность перевоспитания массы крестьянства в соответствии с интересами социалистического завтра, не лишая крестьянского писательства, например, всяческих особенностей его развития, своеобразия его роста и т. д.[668]
Проблема крестьянской литературы усматривалась в том, что в отличие от пролетариата, якобы порождающего пролетарскую литературу, крестьянство не являлось «развивающимся классом» (а тем более авангардным). Поэтому позиционировать эту литературу как «крестьянскую» считалось политически неверным. Рапповские критики прямо заявляли: «Классово четкого, наиболее удовлетворяющего нас изображения строящейся деревни мы ждем только от писателей и художников колхозного участка пролетарского художественного движения», а вовсе не от «крестьянских писателей»[669]. Неудивительно, что создатели пролетарско-колхозной литературы прокламировали доминирование пролетарского начала в ней: «прежде всего, художественная крестьянская литература должна быть пропагандистом и агитатором идеи гегемонии пролетариата»[670]; «в смысле идеологическом крестьянская литература не только в основном созвучна, близка пролетарской литературе, но и в своем головном, ведущем отряде, представляющем сельскохозяйственный пролетариат и бедноту, едина с ней»[671]. А в разного рода резолюциях пленумов «колхозных писателей» прямо утверждалось: «У крестьянской литературы не может быть метода, отличного от метода пролетарской литературы»[672]. Между тем сливаться друг с другом РОПКП и РАПП не хотели, считая такие тенденции «левым загибом», «идеализацией реальной классовой борьбы в колхозной деревне» и «капитулянтством перед трудностями».
Вслед за рапповской «пролетарско-колхозная критика» в 1929–1932 годах была в основном занята «идейно-организационным укреплением и размежеванием» и вопросами литературной политики[673]; рассуждениями о «творческом методе»[674]; пересмотром собственной истории[675]; «массовым литературным движением»[676]; «воспитанием нового крестьянского писателя»[677]; прокладыванием путей «крестьянской лирики»[678], «крестьянского романа»[679] и «крестьянской драмы»[680]; указаниями того, как надо изображать «стержневой образ крестьянской литературы»[681]; рассмотрением читательских интересов деревни[682] и языка[683]; констатацией роста крестьянской литературы[684]; непрестанным разоблачением уклонов[685] и «кулацкой поэзии»[686].