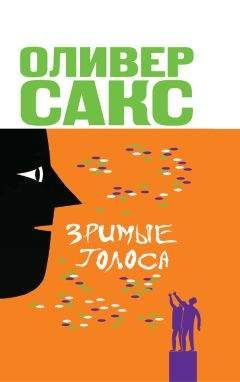Ознакомительная версия.
Вероятно, именно в церковной службе становится особенно заметной красота языка жестов. В некоторых церквах есть даже хоры, «поющие» на языке жестов. Вид одетых в строгие одежды хористов, в унисон говорящих на языке жестов, вызывает душевный трепет» (Шейн, 1984, с. 144-145).
В октябре 1989 года я посетил синагогу глухих в Арлета, штат Калифорния, в день искупления (Йом-Кипур). В синагоге собралось свыше 200 человек, многие из которых приехали сюда за сотни миль. Было несколько говорящих, но вся служба проводилась на языке жестов. Раввин, певчие и все прихожане изъяснялись языком жестов. При чтении закона – иудейская Тора написана на свитке, и во время службы отрывки из нее по очереди читают прихожане – чтение «вслух» приняло форму жестов, быстрого перевода библейского иврита на язык жестов. К службе были добавлены некоторые дополнительные молитвы. В одном месте, где речь идет об искуплении коллективных грехов: «Мы делали то, мы делали этим; мы грешили, делая то и делая это…» был добавлен еще один «грех»: «мы грешили, проявляя нетерпение к слышащим, когда они не понимали нас». Добавилась и одна благодарственная молитва: «Ты дал нам руки, чтобы мы могли сотворить язык».
Зрелище этих жестов было поразительным; мне никогда прежде не приходилось видеть таких размашистых жестов и жестов, производимых в унисон. К тому же эти жесты были обращены не к стоящим рядом собеседникам, а ввысь, к небу. (Царила атмосфера всеобщего воодушевления, хотя стоявшая впереди меня пожилая дама безостановочно болтала на языке жестов со своей дочерью.) Эти сплетни на языке жестов напомнили мне о болтовне во время службы в синагогах для говорящих.
Прихожане собрались в синагоге задолго до начала службы и долго не расходились после нее. Для них это было очень важное социально-культурное, а не только религиозное событие. Такие службы чрезвычайно редки, и я сразу подумал о том, как воспитываются глухие дети где-нибудь в Вайоминге или Монтане, где за тысячи миль нет ни одной церкви или синагоги для глухих.
Это случилось не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире; даже в школе де л’Эпе, которую я посетил в 1990 году, обучение стало сугубо «устным» (наверное, де л’Эпе перевернулся в гробу).
Мне очень жаль, что у меня не было возможности обсудить этот вопрос с Кэролом Пэдденом и Томом Хамфрисом, которые, будучи одновременно учеными и глухими, имеют уникальную возможность оценивать события и изнутри, и извне в главе, касающейся «Изменения сознания», книги «Глухие в Америке», самой лучшей книги об изменении отношения к глухим и их отношения к самим себе, происшедших за последние тридцать лет.
Стокоу, 1980, с. 266-267.
Однако Клима и Беллуджи рассказывают о том, как в 1965 году, когда Хомский говорил о языке как о «специфическом соотнесении звука и смысла», его спросили, как он относится к языку глухих (в понятиях данной им характеристики языка). Хомский в ответ проявил широту взгляда, сказав, что не станет настаивать на решающей роли звука и может поменять определение, сказав, что «язык – это специфическое соотнесение сигнала и смысла».
Американский язык жестов идеально подходит для сценического использования, для сценических преображений – намного больше, чем жестовая транслитерация английского языка, – отчасти, потому что это оригинальный язык, а значит, и средство оригинального творчества, а отчасти, потому что картинная, пространственная структура языка жестов позволяет неподражаемо воспроизводить комические, драматические и эстетические эффекты (последний раздел книги Климы и Беллуджи посвящен как раз «Возвышенному использованию языка жестов»). В обыденном общении глухие редко пользуются чистым языком жестов, собеседники часто включают в разговор выражения, знаки и неологизмы на жестовой транслитерации английского языка, если того требует ситуация. Тем не менее с точки зрения лингвистики и неврологии язык жестов и жестовая транслитерация английского языка – это совершенно разные вещи. В практическом употреблении можно считать средство общения глухих континуумом, на одном конце которого расположена транслитерация английского языка, в середине – кодовые жесты, в которых закодированы английские выражения, а на другом конце – чистый, или «глубинный», язык жестов.
Учителей и преподавателей учебных заведений для глухих в настоящее время побуждают к тому, чтобы они одновременно говорили вслух и изъяснялись языком жестов; этот метод (Sim Com), как надеются его создатели, поможет сохранить преимущества обоих средств общения, хотя на практике из этого ничего не выходит. При таком подходе происходит искусственное замедление устной речи, так как одновременно приходится еще и жестикулировать. Мало этого, страдает и выразительность языка жестов, ибо говорящий на нем вынужден пропускать некоторые, иногда очень важные в смысловом значении знаки. Система жестикуляции искажается порой настолько, что речь на языке жестов становится нечленораздельной и малопонятной. К этому надо добавить, что говорить по-английски и на языке жестов одновременно очень трудно, так как это совершенно разные языки; это приблизительно то же самое, что говорить по-английски и одновременно писать по-китайски, с точки зрения неврологии это практически невозможно.
Однако в Соединенных Штатах на официальном уровне до сих пор не было предпринято ни одной попытки сделать глухих детей билингвами, давая им образование на двух языках. Было лишь несколько ограниченных пробных экспериментов (об одном из них в 1988 году сообщил Майкл Стронг). Напротив, как отмечает Роберт Джонсон, такая система двуязычного образования давно действует в Венесуэле, где проводится соответствующая образовательная политика и где к преподавательской деятельности привлекаются глухие взрослые (Джонсон, личное сообщение). При венесуэльских школах действуют дневные центры, куда водят детей с тех пор, как у них диагностирована глухота. В этих центрах с детьми общаются только на языке жестов, после чего они переходят в детские сады и школы, где им начинают прививать двуязычие. Такая же система действует и в Уругвае. В обеих этих южноамериканских странах уже достигнуты значительные и многообещающие успехи. К сожалению, эти успехи пока почти неизвестны ни европейским, ни американским деятелям просвещения и образования (см., однако, статьи Джонсона, Лидделла и Эртинга, 1989). Единственными странами, помимо Венесуэлы и Уругвая, где образование дается на двух языках, являются Швеция и Дания. В этих странах язык жестов официально признан родным языком глухих. Все эти примеры отчетливо показывают, что можно научиться бегло читать, даже не умея говорить, и что «тотальное общение» не является обязательным промежуточным звеном между обучением устной речи и двуязычным образованием.
Социолингвист Джеймс Вудворд давно и пристально занимается этой темой. Растущее осмысление культурного разнообразия в противовес фиксированной «норме» с отклонениями в ту и другую сторону связано с гуманистическими течениями предыдущего столетия, а возможно, возникло и еще раньше. В частности, такова была точка зрения Лорана Клерка (и это еще одна фундаментальная причина, по которой студенты так часто призывали его имя, чувствуя, что его дух как бы «ведет» их революцию).
До самой своей смерти Клерк учил расширению взглядов, свойственных обществу XIX века, на «человеческую природу», ратовал за понимание относительности «нормы» и равенство возможностей человека, за отказ от привычной дихотомии «нормы» и «патологии». Мы говорим о наших предшественниках из XIX века как о жестких, репрессивных и придирчивых моралистах, но голос Клерка и тех, кто внимал ему, создает прямо противоположное впечатление: то было время, весьма расположенное к «естественному», «природному» – к цельному, но разнообразному спектру природных наклонностей – и несклонное (по меньшей мере не так склонное, как наше) к морализаторским и клиническим суждениям относительно того, что такое норма и патология.
О большом диапазоне «природных» особенностей снова и снова пишет Клерк в краткой «Автобиографии» (она обильно цитируется Лейном, 1984а): «Каждое существо, каждое творение Бога достойно восхищения. То, что мы находим ошибочным, часто оборачивается к нашей пользе, хотя мы и сами подчас этого не понимаем». Или: «Мы можем лишь благодарить Бога за разнообразие его творений и надеяться, что в будущем мире найдутся объяснения причин этих творений».
Характерное для Клерка понимание «Бога», «творения», «природы» – скромное, разумное, мягкое и смиренное – коренится, вероятно, в его ощущении себя и глухих вообще другими, но тем не менее полноценными человеческими существами. Это отношение диаметрально противоположно прометеевой ярости Александра Грэхема Белла, который видит в глухоте обман чаяний, ущербность и трагедию, стремится «нормализовать» ее, исправить ошибки Бога и вообще улучшить природу. Клерк выступает за природное богатство, терпимость и разнообразие, Белл – за технологию, изменение наследственности, слуховые аппараты, телефоны. Это две абсолютно противоположные точки зрения, но они обе имеют полное право на существование.
Ознакомительная версия.