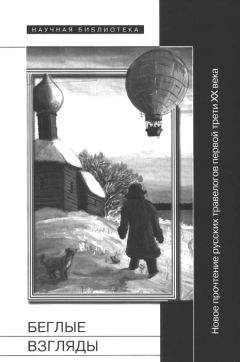Путешествие на грани человеческого — не новость в области искусства. Пиранези и Данте уже делали попытку заглянуть за роковые ворота. Но здесь речь идет о трагическом наследии XX века, реально существующей модели для создания вместо рая потустороннего «ада на земле». В этом смысле Платонов переносит европейскую драму в современность, где стоит покинутая колыбель человечества. Вместе с тем он придает своему свидетельству новое измерение и добавляет литературный вымысел. Платонов принадлежит к тем, кто понял необходимость этого начинания; вероятно, он был первым. Тем самым писатель преодолел невозможность морального посыла, заключающегося в том, чтобы говорить то, о чем не принято говорить, показывать, что обычно не показывают. Не обладая стратегией взгляда и слова, сохраняющей достоинство наблюдаемого и наблюдателя, писатель, рискующий поехать в такой регион, обречен на молчание или на ложь. К тому же он должен быть одержим неодолимой силой пророческого творчества.
Внимание привлекает контраст между «слепотой» книги о Беломорканале, которую опубликовали путешествовавшие писатели, и проницательным взглядом Платонова, направленным на обезличивание, обесчеловечивание людей. Кажется, Платонов никогда не забывал в туркменской пустыне о том, что он по инерции стремился видеть всегда и везде. Во время путешествия от одного региона к другому он ищет тот из них, где наилучшим образом находит свое место литературный объект. Расположение в пространстве позволяет расширить видение. Если даже отвлечь его от спрятанного с географической точки зрения объекта, никакая сила не в состоянии воспрепятствовать Платонову видеть действительность.
Анны Эпельбуа (Париж)V. Перевернутая перспектива: изгнание как путешествие — путешествие как изгнание
Изгнание как путешествие: русский взгляд Другого (1920-е годы)
Михаил Бахтин в своей работе 1920-х годов «К философии поступка» рассматривал противопоставление я и другой как «высший архитектонический принцип действенного мира поступка», как «два разных, но соотнесенных между собой ценностных центра», вокруг которых «распределяются и размещаются все конкретные моменты бытия»[565]. Обозначенное Бахтиным противопоставление было особенно актуально именно в 1920-е годы, когда вследствие исторических катаклизмов, связанных с мировой войной и революцией в России, пришли в движение огромные человеческие потоки: с востока на запад двигались изгнанники, беженцы, посредники, миссионеры. Великий исход из России сформировал особый тип личности, долгое время воспринимавшей изгнание как путешествие и сохранявшей взгляд и оценку Другого. В работе «Философии поступка» Бахтин, в частности, писал: «Я и другой суть основные ценностные категории, впервые делающие возможной какую бы то ни было действительную оценку»[566].
В период между двумя мировыми войнами XX века, в особенности после революции 1917 года, поездки из России в Европу (и в первую очередь в Германию и Францию) так или иначе были обусловлены идеологически. Зачастую они являлись формой вольного или невольного изгнания, связанного с отношением к большевистскому режиму. Как правило, поначалу изгнанники избегали называть себя эмигрантами, долгие годы сохраняли российское гражданство и ждали удобного момента для возвращения в Россию. Иногда, по очень разным причинам, такое возвращение действительно происходило через несколько лет (достаточно вспомнить Алексея Толстого, Андрея Белого, Марину Цветаеву, Бориса Пильняка и мн. др.), но нередко дело заканчивалось «окончательной» эмиграцией. Но и в таком случае «путешествие» оставалось важным элементом их мироощущения в целом. Так, Мартын, герой романа Владимира Набокова «Подвиг» (1932), возвращаясь из послевоенного Берлина в места своей европейской «оседлости» и отвечая на вопрос попутчика в поезде, не путешественник ли он, воскликнул: «Именно!.. Путешественник в самом широком смысле!»[567]
Другой возможностью выехать из России становились служебные или творческие командировки, многие из которых длились с небольшими перерывами долгие годы. Здесь особенно примечателен феномен Ильи Эренбурга, в общей сложности проведшего в Европе почти двадцать лет. Однако при всем различии мировоззрений и судеб этих людей обращает на себя внимание связывающее их почти неизбывное ощущение «другости» по отношению к Европе, заметное сходство в восприятии ее быта и бытия. Это и позволяет говорить о наличии русского взгляда Другого и, применительно к обстоятельствам, взгляда русского путешественника, для которого открывались свои, только для него видимые перспективы.
Как известно, Достоевский считал, что, в отличие от немца или француза, русский человек, теряя национальную принадлежность, теряет все. Такое самоощущение модифицировалось в течение всего XX века и даже нашло отражение в произведениях российского постмодернизма. Так, Виктор Ерофеев в своей книге «Энциклопедия русской души» пишет:
Тоска по родине в гораздо большей степени оказывается родиной, чем сама родина. Другие родины можно поменять одну на другую без особой болезни. Не это ли поразительное свидетельство значительности русской сущности. Миллионы русских эмигрантов XX века, изнывавших в Берлине и Париже, неустроившихся, озлобившихся — пример могущества России[568].
В другом месте Ерофеев поясняет: «Мы не складываемся в чужой шкатулке. Мы — хвостатые…»[569]
И действительно, в 1920-е годы многим русским людям отъезд из России казался «концом биографии»[570]. «Потеряны и разбиты часы — началась жизнь вне времени», — писал в Берлине Алексей Ремизов[571]. Подмеченное еще Петром Чаадаевым вечное путешествие, «хаотическое брожение» русских умов не только вне времени, но как будто и вне пространства — наиболее частое и характерное самоощущение изгнанников из России, оказавшихся в Европе в 1920-е годы. Даже активный посредник и миссионер Федор Степун чувствовал себя там бродягой, ибо, по его собственным словам, российское западничество — «лишь интеллигентское преломление народного бродяжничества», а отрыв от корней — типично русская духовная неукорененность[572].
И действительно, путешествие приобретало для русских изгнанников онтологический, «бытийный» смысл. «Путешествие начинается не с изгнания, а с вечного вопроса», — подметил исследователь творчества Гайто Газданова[573], в произведениях которого понятие «путешествие» получило знаковый характер. Связь жизненного («бытийного») и литературного («метафизического») аспектов возникала постепенно и претерпевала изменения в разные исторические эпохи.
Обращаясь к запискам русских путешественников 1920-х годов, следует иметь в виду, что они представляют лишь определенный этап в истории литературного жанра, нередко выступавшего под кратким названием «путешествие». Как известно, история этого жанра в России восходит еще к XVII–XVIII векам.
Первые поездки русских людей в Европу стали более или менее регулярными в период царствования Петра Первого. В эти путешествия люди, как правило, отправлялись насильственно; притом сами поездки носили своего рода идеологический характер. Ведь европейские страны, куда подданным Петра надлежало ехать учиться, считались «басурманскими» и еретическими; само путешествие ассоциировалось с изгнанием из страны, ссылкой, даже с возможной гибелью. Прощание было горестным: невесты уезжавших часто надевали траурное платье.
Даже последующее более близкое знакомство с обычаями и языками европейских стран не смогло полностью снять ощущение изгнания и трагического предчувствия, ассоциировавшихся с путешествием за границу. Многие из подобных предчувствий действительно оправдывались: ведь именно с путешествиями на Запад было связано появление уже в Древней Руси инакомыслия и сознательной эмиграции (невозвращения) в страну. Так, при Иване Грозном один из вернувшихся из Европы молодых людей, особенно успешно обучавшийся в западных университетах, был казнен за свободомыслие. А при Борисе Годунове из пятнадцати юношей, посланных учиться в европейские университеты, вернулся только один. Уже в Древней Руси имелись и свои первые известные «диссиденты» (князь Андрей Курбский), и первые «западники» (Николай Ордын-Нащокин)[574].
Однако побывавшие за границей русские люди далеко не всегда оставляли дневники или путевые очерки. Ярким исключением из этого правила явились записки стольника Петра Толстого, предка всех Толстых-писателей, в том числе и «красного графа» Алексея Толстого. Стольник Толстой был послан в Европу Петром Первым и провел там довольно длительное время — с 1697 по 1699 год — якобы для подготовки будущего визита русского царя. Но визит не состоялся, а сам стольник вместе с сыном позднее был казнен при очередной смене власти в России.