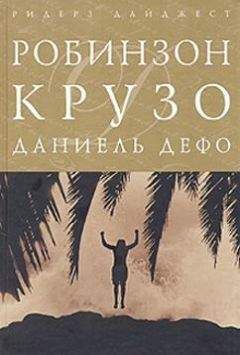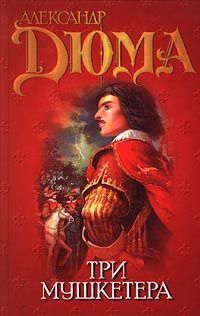— Ну-с? Что скажете, друг мой? Есть у вас какая-нибудь рабочая гипотеза, которая могла бы объяснить всю эту неразбериху?
— Да… Я, кажется, понял, в чем тут дело, — глубокомысленно заметил тот. — Вы ведь знаете, Холмс, что каждый свидетель обычно излагает свою версию события. Не то что чей-нибудь рассказ, но даже то, что он видел собственными глазами, каждый склонен понимать и истолковывать по-своему. Вот я и подумал…
— Ну, ну? Смелее, Уотсон! Что же вы подумали? — подбодрил его Холмс.
— Я подумал, что первый капитан — это, так сказать, дитя воображения первой дамы. А второй — плод фантазии ее подруги.
— В остроумии вам не откажешь, — улыбнулся Холмс. — Что я могу вам сказать? Гипотеза ваша весьма правдоподобна. Но, к сожалению, совершенно неверна. Дело в том, друг мой, что оба этих капитана, как я уже намекал вам, настоящие. То есть, строго говоря, настоящий — один. Но оба безусловно подлинные.
— Ничего не понимаю! — возмутился Уотсон. — Настоящий один, а подлинные оба! Как это может быть?
— Сейчас объясню, — успокоил его Холмс. — Закончив первый том «Мертвых душ», Гоголь, перед тем как отправить рукопись в печать, послал ее, как это полагалось, в цензуру. После долгих мытарств разрешение печатать книгу было наконец получено. Однако «Повесть о капитане Копейкине» цензура не пропустила. Сохранилось письмо цензора Никитенко к Гоголю. Оно у меня есть. Если хотите, можете с ним ознакомиться.
— Конечно, хочу! — воскликнул Уотсон.
Достав из бюро письмо, Холмс передал его Уотсону, отчеркнув ногтем несколько строк.
— Все письмо читать не обязательно, — сказал он. — Прочтите только вот это место, относящееся к капитану Копейкину.
— «Совершенно невозможным к пропуску оказался эпизод Копейкина, — медленно прочел Уотсон. — Ничья власть не могла защитить его от гибели».
— А теперь прочтите вот это, — сказал Холмс, протягивая Уотсону еще одно письмо.
— А это что?
— Ответ Гоголя на письмо Никитенко.
Уотсон бережно развернул гоголевское послание и прочел:
— «Признаюсь, уничтожение Копейкина меня много смутило, это одно из лучших мест. И я не в силах ничем теперь залатать ту прореху, которая видна в моей поэме… Вы сами можете видеть, что этот кусок необходим…»
— Как видите, Уотсон, — прервал его Холмс, — сам Гоголь, в отличие от вас, считал этот эпизод не только нужным, но совершенно необходимым. Он полагал, что исключение «Повести о капитане Копейкине» из текста «Мертвых душ» нанесет его поэме непоправимый урон. «Без Копейкина, — писал он в эти дни, — я не могу и подумать выпустить рукописи». В другом письме он говорит: «Я решился не отдавать его никак!» Короче говоря, Гоголь решил любой ценой спасти своего «Копейкина» от красного цензорского карандаша.
— Но каким образом?
— Читайте дальше письмо Гоголя к Никитенко. Там все сказано.
Уотсон вновь приблизил к глазам текст гоголевского письма и прочел:
— «Мне пришло на мысль: может быть, цензура устрашилась генералитета. Я переделал Копейкина; я выбросил все, даже министра, даже слово „превосходительство“. В Петербурге, за отсутствием всех, остается только одна временная комиссия. Характер Копейкина я вызначил сильнее, так что теперь ясно, что он сам причиною своих поступков, а не недостаток сострадания в других. Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо. Словом, все теперь в таком виде, что никакая строгая цензура, по моему мнению, не может найти предосудительного в каком бы то ни было отношении. Молю вас возвратить мне это место и скорее сколько возможно, чтобы не задержать печатанья».
— Ну вот, — удовлетворенно кивнул Холмс. — Теперь, я надеюсь, вам ясно, откуда взялись два капитана Копейкина. И почему я сказал, что оба они подлинные, хотя настоящим по справедливости может называться только один из них.
— Да, теперь загадка разъяснилась, — согласился Уотсон. — Оба подлинные, потому что оба созданы Гоголем. Но настоящим надлежит считать первого. Того, которого Гоголь создал по велению души, а не применяясь к требованиям цензуры… Я надеюсь, Холмс, что во всех изданиях «Мертвых душ» печатается настоящий, то есть первый вариант?
— Теперь, — сказал Холмс, делая особое ударение на этом слове, — всюду печатается настоящий вариант. Но в былые времена во всех изданиях поэмы Гоголя «Повесть о капитане Копейкине» печаталась в той искаженной редакции, которую Гоголь создал поневоле, понужденный к тому цензурой.
— Какое счастье, что первоначальный вариант сохранился! — воскликнул Уотсон.
— О, это целая история, — улыбнулся Холмс. — Кстати, вполне детективная. Остротой интриги она может соперничать с самыми захватывающими рассказами о наших с вами приключениях, милый Уотсон.
— Вы шутите?
— Ничуть. Когда Гоголь создал новый, смягченный, вариант этой повести, он переписал его набело на листках почтовой бумаги. Листки эти были вклеены в рукопись «Мертвых душ», и они вместе со всей рукописью, завизированные цензором, пошли в печать. А прежний вариант был из рукописи вырезан. И куда он девался, не было известно чуть ли не целых сто лет.
— О боже!
— К счастью, эти вырезанные страницы Погодин, друг Гоголя, позволил скопировать некоему Николаю Тихонравову, который впоследствии стал известным исследователем литературного наследия Гоголя.
— И Тихонравов их напечатал?
— Да. Но не сразу. Он сумел опубликовать их лишь полвека спустя после того, как они были запрещены цензурой. И то не в тексте «Мертвых душ», а лишь в приложении к поэме. Так они и печатались до недавнего времени. Особых сомнений в том, что это текст подлинный, то есть гоголевский, ни у кого не было. Но все-таки это ведь была копия. А оригинал исчез.
— И неужели он так и не отыскался?
— Отыскался. Но это уже произошло сравнительно недавно. Какими-то неисповедимыми путями эти вырезанные страницы оказались в Красноярске, откуда потом попали в Москву, в Центральный государственный архив древних актов. Там их обнаружил литературовед Илья Фейнберг. Он догадался, что представляют собой эти страницы и блестяще доказал их подлинность. Мало того, он проследил весь сложный, запутанный путь этих затерянных страниц, всю их судьбу чуть ли не за целое столетие. Обо всем этом он рассказал в своем сочинении, озаглавленном «История одной рукописи». Именно про это сочинение я и сказал вам, что остротой интриги оно может соперничать с лучшими из «Рассказов о Шерлоке Холмсе».
— Вы хотите сказать, что профессия литературоведа таит в себе такие же неожиданности, как и профессия криминалиста? — спросил Уотсон.
— О, я хочу сказать не только это, — покачал головой Холмс. — Впрочем, об этом позже. Пока что я хочу, чтобы вы ясно поняли, как важен результат этой находки. Как, по-вашему, велика разница между этими двумя вариантами «Повести о капитане Копейкине»?
— Велика ли? — задумался Уотсон. — Как вам сказать…
— Вы просто удивляете меня, Уотсон! — воскликнул Холмс. — Да ведь эта разница просто поразительна! Вы только подумайте. Одно дело — человек становится предводителем разбойничьей шайки, потому что он доведен до отчаяния, умирает с голоду. И совсем другое, если он хочет ходить в театры да лакомиться французским вином.
— Однако вы так и не ответили мне на главный мой вопрос, — воскликнул вдруг Уотсон. — Почему все-таки Гоголь считал, что капитан Копейкин так необходим в поэме? Ведь он и в самом деле ничем не похож на Чичикова.
— А вот как раз тем и необходим, что не похож, — ответил Холмс. — Не только на Чичикова, но и на всех остальных персонажей поэмы. Как вы думаете, Уотсон, почему эта книга Гоголя называется «Мертвые души»?
— Смешной вопрос! — пожал плечами Уотсон. — Потому что Чичиков скупает мертвые души, которые по документам числятся живыми.
— Нет, друг мой, — покачал головой Холмс. — Не только поэтому. Вы только окиньте взглядом всех персонажей этой гоголевской поэмы. Да ведь они сами — мертвые души. А капитан Копейкин среди них — чуть ли не единственная живая душа. Если помните, по словам просто приятной дамы, Чичиков ворвался к Коробочке, как «Ринальд Ринальдин». То есть, как разбойник. Это, конечно, игра воображения милой дамы. Но вся штука в том, что Чичиков ведь и в самом деле — разбойник.
— Как капитан Копейкин?
— То-то и дело, что нет. И не только потому, что разбой его совсем особого рода. Чичиков разбойничает ради наживы, ради вкусной и сладкой жизни. А капитан Копейкин вынужден стать разбойником, потому что с ним поступили несправедливо. Не только обрекли на бесправие и нищету, но еще и обидели, оскорбили, унизили. А теперь подумайте, какой страшный урон нанес Гоголь своей поэме, изменив образ Копейкина. Ведь Копейкин-сластолюбец, Копейкин, мечтающий о всяких разносолах и французских винах, уже не так далек от Чичикова, как Копейкин, отстаивающий свое естественное право на жизнь. Внеся эти исправления, Гоголь невольно приблизил Копейкина к Чичикову, во всяком случае, сильно уменьшил пропасть, их разделяющую.