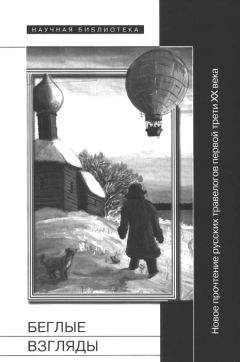К тому же Франция является для путешественника «домом» (С. 370), что лишает трагичности его поспешный отъезд из Германии, который оказывается вовсе не бегством, хотя и происходит в ускоренном темпе, как бы «бегом». Быстрый проезд по Германии после относительно продолжительного посещения Берлина не исключает пристального взгляда поэта на отдельные детали пейзажа.
При этом любопытно, что как раз в том единственном случае, когда Г. Иванов вспоминает о Гальберштадте, одном из городов на пути его эмиграции в начале 1920-х, можно выявить два типа «взглядов» на действительность. В эпоху эмиграции, то есть «бегства» из России, Иванов провел в Гальберштадте (как он вспоминает в своих очерках) час или полтора и не увидел в этом городе ничего примечательного, кроме банального вокзала и улиц, которые ему напоминали улицы Берлина в миниатюре. Теперь же, во время пусть и поспешного, но все же путешествия, ему удается присмотреться к этому месту, которое оказалось «волшебным средневековым городом», ожившей архитектурой:
Один за другим вырастали перед глазами дома, один восхитительнее другого. Этажи выступами громоздились над этажами. Пестрые стекла сияли и переливались в окнах самых причудливых фасонов. Какие-то лесенки круто вели к небу. Чугунные лебеди протягивали шеи из темноты (С. 362).
II. «Качка» как модель «беглого» сознания
Приведенный пример воспоминаний о пути эмигранта — единственное упоминание о собственном бегстве Георгия Иванова из России в цикле очерков «По Европе на автомобиле». В начале 1930-х годов он пишет рассказы и воспоминания, в которых время от времени касается темы своего отъезда из СССР. Кажется, что после десяти лет эмиграции Иванов подводит определенный итог своего «побега». Его рассказ «Качка. (Отъезд из России)», опубликованный в «Сегодня» в 1932 году, представляет определенную концептуализацию его собственного бегства из России.
Прежде всего поражает легкость, с которой, в представлении Г. Иванова, происходил сам процесс отъезда. Он с юмором вспоминает о том, что должен был заработать на дорогу, переводя сочинение, по откровенности свой сравнимое, по его мнению, с «Любовником леди Чаттерлей»:
Десять лет тому назад — осенью 1922 года — я в течение месяца трудился, как каторжник, над переводом «Орлеанской девственницы» Вольтера. В день я переводил до полутораста неполных рифм добротным пятистопным ямбом, избегая неполных рифм и не позволяя себе никаких неточностей. Как-никак я продолжал дело, начатое Пушкиным. Первые двадцать строк этой поэмы, столь же блестящей, сколько кощунственной и неприличной, переведены им. При большевиках, по заказу Горького, за «Орлеанскую девственницу» взялся Гумилев («Всемирная литература»)[680].
Двусмысленности этого приработка по переводу того, что Г. Иванов считал почти порнографией, соответствовали и бюрократические приключения, и даже некоторый обман, на который ему пришлось пойти, чтобы получить разрешение на выезд и визу. Он подробно рассказывает о том, как сам организовал себе «официальный», «лояльный» отъезд — «командировку» в Берлин для составления репертуара государственных театров[681].
Рассказ Г. Иванова о подготовке бегства полон юмора и энтузиазма. Но как только борьба с советской бюрократией закончилась, сама реализация мечты тут же оборачивается разочарованием. Между делом Иванов приводит символическую деталь — тот пароход «Карбо II», на котором он плыл пять дней до Штеттина вместе с М. В. Добужинским, как оказалось, совершил тогда свой последний удачный рейс — на обратном пути он пошел ко дну. Бегство из России трагично, даже если оно сопровождалось довольно забавными приключениями, связанными с его организацией. Преодолев все препятствия, Г. Иванов ощущает лишь утрату — и качка, вызывающая у него небольшую морскую болезнь, как раз передает это переживание бессмысленности нового существования:
Никакого чувства освобождения, легкости, радости. Даже наоборот. Конечно, теперь я курил папиросы с золотым мундштуком вместо махорки, конечно, я был свободен, конечно, я ехал в Берлин, в Париж, где я мог делать, что хочу, где никто не мог меня вдруг арестовать, сослать, расстрелять. Все это было так. Но сознание это было каким-то бесцветным, отвлеченным, бесплотным, не имеющим цены. Реальными были: резкий ветер, мокрая палуба, хмурые волны да еще тревожный вопрос: неужели Россия потеряна для меня навсегда?[682]
Свое бегство из России Иванов рассматривает здесь в категориях не динамики, а именно статики. Динамика присутствовала в рассказе о его российских приключениях — там было некое целенаправленное движение, калейдоскоп событий и встреч, приведших к некоему результату. Теперь он оказывается на палубе корабля, чье движение не имеет смысла, и остается лишь переживание самого героя, который испытывает тошноту из-за осознания своего тотального одиночества. При этом образ «качки» лишь подчеркивает физическую составляющую этого состояния, смысл которого — в осознании своего нового существования, или существования вообще[683].
Рассказ заканчивается неудачным посещением берлинского дома одного из спутников Г. Иванова по кораблю. В результате автор вынужден поехать в гостиницу. «Несмотря на то что прошло уже много часов, как я сошел на твердую землю, ноги мои ступали как-то нетвердо», — замечает Иванов. Образ качки превращается в модель нового эмигрантского сознания.
Таким образом, тема эмиграции связана у Г. Иванова со статическими тенденциями: если «качка» — это движение, то повторяющееся, на одном месте. Как мы видели в очерках «По Европе на автомобиле», воспоминания об эмиграции оставляют в памяти автобиографического героя бесцветные и безжизненные воспоминания, которые, однако, обретают интерес и колорит во время путешествия, имеющего цель возвращения «домой», в Париж. Это не означает, что Париж рассматривается в цикле очерков как настоящая родина, но он оказывается бесспорно позитивной точкой притяжения не только в тематическом, но и, как мы показали, в идеологическом смысле этого слова. Стремительная езда в автомобиле, особенно после посещения Берлина, усиливает тот аспект темы «бегства», который в «Качке» был воплощен в описаниях борьбы с советской бюрократией. Не ставя знака равенства между нацизмом и советским режимом, Г. Иванов видит несомненные черты сходства. В бегстве от нацизма есть черты бегства из СССР, но пока, в начале 1930-х годов, Г. Иванов склонен переживать это «повторение» истории как некую пародию, как фарс. Однако постепенно ситуация будет усугубляться, и Иванов выразит свою новую оценку в «поэме в прозе» «Распад атома» (1938).
III. Динамика пространств в «Распаде атома»
Очерки «По Европе на автомобиле» с их атмосферой предчувствия войны являются одним из факторов эволюции поэта Георгия Иванова, приведшей к созданию «Распада атома». Хотя фрагментарное очерковое письмо и темы эмиграции и нацизма, разработанные в очерках «По Европе на автомобиле», не исчерпывают содержания знаменитой «поэмы в прозе», но являются важной ее составляющей.
Очерки «По Европе на автомобиле» являются своеобразным «источником» «Распада атома»[684]: в них проявилась способность Г. Иванова сочетать политическую злободневность, размышления о ходе истории и поэтический взгляд на мир. В «Распаде атома» доминирует обобщенный поэтический аспект — переживание лирическим героем «бесчеловечной мировой прелести в одушевленном мировом уродстве» (С. 9), но и конкретная политика также играет очень важную роль. «Распад атома» — произведение, проникнутое ощущением угрозы войны, соизмеримой с Первой мировой, окончание которой, по мнению Г. Иванова, само по себе оказалось чревато ее возобновлением. «Тень» войны, о которой шла речь в очерках «По Европе на автомобиле», ощущается в «Распаде атома» как реальность, о чем свидетельствует политический лейтмотив — «горе победителям», являющийся перевернутым латинским выражением «Vae victis».
По сравнению с очерками политические взгляды Г. Иванова обрели большую четкость. Гитлер и Сталин для него — явления одного порядка, о чем свидетельствует первоначальный замысел концовки «Распада атома». Но в окончательном тексте автор избегает прямого политического вывода. Как он вспоминал в 1955 году, «Атом должен был кончаться иначе: „Хайль Гитлер, да здравствует отец народов Великий Сталин, никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!“ Выбросил и жалею»[685].
В «Распаде атома» нет описаний пространства современной Германии. Однако многократное упоминание о Версальском договоре, согласно которому «Германия должна платить», звучит не как констатация свершившегося факта справедливости, но как выражение сомнений по поводу того, каким образом отплатит[686] Германия. С другой стороны, «Распад атома» содержит ассоциации с классической немецкой культурой, что проявляется в неоднократном цитировании баллады И.-В. Гете «Лесной царь», и прежде всего в эпиграфе из второй части «Фауста».