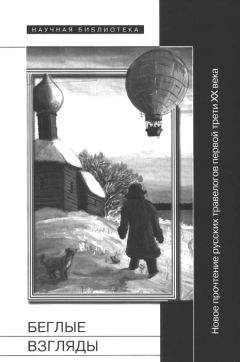Показательно, что «возвращение» из «путешествия вглубь» в «плоскость» подчиненного мышлению мира фокусируется «беглым взглядом»:
Все сменялось вокруг меня со стремительной быстротой: пейзаж, люди, различные климаты, различные зоны растительности[674].
Таким образом, завершающей текст критике цивилизации (которая связана с предшествующим господством логики беглостью восприятия) в развитии текста как «путешествия» начинает противостоять практика углубленного восприятия:
Все, о чем я писал Вам — это состояния моей души, отблеск воображения и, к счастию, меньше всего — изображение моих мыслей[675].
Травелог как виртуальное путешествие вглубь, как вездесущий выход из времени и пространства (вспомним слова Терапиано относительно эмиграции) позволяет избежать эмигрантского существования, попавшего в редкую амбивалентность беглости и неподвижности. Вечно проклинаемое «прощание навсегда» таким образом преодолевается.
Гун-Брит Колер (Ольденбург)Очерки «По Европе на автомобиле» в генезисе художественной прозы Георгия Иванова 1930-х годов
Рассматривая прозу Георгия Иванова через призму очеркового жанра, мы осознанно переворачиваем наиболее органичную для творчества Г. Иванова поэтическую перспективу. Это не означает, что мы ее игнорируем и считаем несущественной. Напротив, она представляется нам универсальным источником, доминантой и завершением всего его творчества, независимо от того, представлено ли оно стихами или прозой, и в этом смысле мы совершенно солидарны с исследователями творчества Г. Иванова[676].
Но в данной статье мы ставим перед собой другую, так сказать «анти-поэтическую», задачу: рассмотреть, каким образом реальная ситуация эмиграции и связанные с нею политические темы нашли отражение не только в заведомо журналистском жанре очерков, но и в художественной прозе, в которой можно найти и тематические, и структурные черты репортажа, — с поправкой, разумеется, на характерное для мышления поэта смешение «реальности» и «грезы» (по большей части кошмарной).
Цикл очерков «По Европе на автомобиле», посвященных реальному путешествию поэта Георгия Иванова, был впервые опубликован в 1933–1934 годах в газете «Последние новости» (переиздан в Собрании сочинений в трех томах, в томе 2). В очерках описывается девятидневное путешествие Г. Иванова из Риги в Париж, совершенное им в 1933 году, то есть более чем через десять лет после его бегства из Советской России. Это путешествие напоминает скорее познавательно-развлекательную туристическую поездку, нежели бегство, хотя путешествие из Берлина в Париж по своей стремительности подобно бегству. Как писал Г. Иванов в начале очерков, «случай пересечь пол-Европы на автомобиле представляется не часто в эмигрантском быту. Мне в этом смысле повезло. Из Риги в Париж я приехал на 20-сильной американской машине» (С. 324)[677].
Эти очерки являются интереснейшим документом; в них описаны европейские страны начала 1930-х годов, среди которых наибольшее место занимает Германия. Вместе с тем они являются художественным повествованием с нелинейным выстраиванием времени, что позволяет автору упомянуть вскользь о своем собственном отъезде-бегстве на Запад, дать панораму жизни русской эмиграции и передать свои ощущения от жизни на чужбине. Причем для повествования характерна динамика, которая, с одной стороны, соответствует теме путешествия, с другой — специфике публикации очерков, выходивших по частям в газете, где каждый фрагмент должен был обладать определенной запоминающейся логикой, способной заинтересовать читателя.
Таким образом, цикл очерков «По Европе на автомобиле» представляет собой амальгаму документального и художественного жанров. Данное произведение имеет большое значение в контексте прозы Г. Иванова 1930-х годов; тематически оно перекликается с рассказами и воспоминаниями о бегстве из Советской России, опубликованными в начале 1930-х, в то же время являясь, как нам кажется, одним из «источников» «Распада атома».
I. Особенности поэтической и идеологической оптики в очерках «По Европе на автомобиле»
«По Европе на автомобиле» начинается с описания следов Первой мировой войны на литовской дороге:
Кресты братских кладбищ. Лес, исковерканный орудийным огнем. Остатки окопов, клочья колючей проволоки, стены сожженных фольварков. Призраки войны все еще сторожат большую литовскую дорогу (С. 324).
Описание пейзажа быстро переходит в поэтические размышления по поводу войны — «призраки» становятся «реальными», а проза обретает местами особую ритмику: «Да и там, где следы войны внешне стерты, продолжает веять их ледяная тень» (С. 324). Взгляд поэта «скользит» по времени и пространству: от наблюдаемой действительности он уходит в недалекое прошлое, обретающее фантастическое — «призрачное» — измерение.
С самого начала очерков Г. Иванов проявляет особый взгляд на объект своего описания — путешествие по Европе. Он смешивает два основных временных пласта — современность и прошлое, связанное с недавними историческими катаклизмами: в данном случае с Первой мировой войной, а в дальнейшем еще и с Октябрьской революцией. Более отдаленное прошлое, как мы увидим, тоже может быть предметом описания, но оно окажется так или иначе актуализировано двумя основными временными планами. Эти два времени воспринимаются Ивановым как отражения: в современности он предчувствует повторение катастроф в недалеком будущем. Таким образом, «взгляд» поэта — это не только наблюдение за окружающим миром, но и размышления над его судьбами, заставляющие менять его, так сказать, траекторию, обращаясь к прошлому или к неопределенному будущему. Но речь идет и о взгляде поэта, чья творческая фантазия создает еще одну «реальность» — пусть и призрачная, но именно эта «реальность» передает то, что относится к сфере предзнаменований, к плану будущего.
Вернемся к тексту очерков. После поэтических раздумий по поводу первого пейзажа повествователь как бы возвращается в «реальность», которую описывает в стиле информативного письма, наподобие того, каким пишутся туристические справочники. От «теней» войны Г. Иванов возвращается в современную ему Митаву и Митавский дворец, но лишь для того, чтобы снова окунуться в прошлое — на этот раз в далекую историю XVIII века, эпоху царицы Анны Иоанновны и всесильного Бирона. Это прошлое становится, впрочем, лишь предлогом для упоминания о революции и Гражданской войне, когда красноармейцы насмехались над набальзамированным трупом Бирона, а белогвардеец Бермонт-Авалов при отступлении окончательно разрушил город.
В этом почти анекдотическом рассказе о Бироне снова появляется поэтический лейтмотив, связанный с войной — с «ледяной» ее тенью: «тело Бирона валялось на обледененной земле перед пылавшим дворцом» (С. 327). Возвращается и «кладбищенская» тема. «И только теперь, — сообщает Г. Иванов, — в 1933 году, серебряный вычурный гроб рококо зарыт в землю на обывательском кладбище, и над ним поставлен простой деревянный крест» (С. 327). Мотив «ледяной смерти», связанный с темами войны и большевизма, пронизывает весь текст очерков Иванова.
Описание следующей остановки в пути, Шавли, связывается с немецкой темой благодаря названию отеля-ресторана — «Берлин». Путешественник поражен сходством атмосферы этого городка с другим «таким же еврейско-литовским городком Лиде» (С. 328–329), который он посетил незадолго до начала Первой мировой войны. Это не просто некое постоянство обстановки, но и постоянство дурных предчувствий:
Ничего не переменилось. Даже предчувствие новых несчастий, испытаний и гроз, смутно веющее в этих мирных измерениях, осталось все тем же (С. 329).
Первым немецким городом на пути Г. Иванова оказывается Тильзит. Его впечатления поначалу носят сугубо цветовой характер: он видит огромное количество красного цвета — это красные флаги с нацистской свастикой, красные повязки на руках у людей в форме. Упоминание о красном, разумеется, является отдаленным отголоском предыдущих рассказов о зверствах красноармейцев. Но Иванов не склонен здесь отождествлять нацистов и большевиков — вопрос о том, кто из них является большим злом, мучает путешественника, не способного понять, как дать на него правильный ответ. Тем не менее сопоставление Советской России и нацистской Германии присутствует повсюду. Юные гитлеровцы, вымуштрованные по-военному, но «с каким-то еле уловимым налетом распущенности» (С. 333), напоминают Г. Иванову «тыловых прапорщиков конца войны… что после становились, смотря по обстоятельствам, кто комиссаром, кто налетчиком» (С. 333). Иванов настаивает на «другой человеческой „тональности“», присущей юным нацистам по сравнению с большевиками; и сравнение это — не в пользу нацистов.