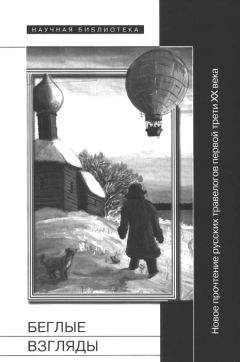Небоскребы современного города свидетельствуют о мощи капитала, а величественные соборы старых городов — о мрачной власти инквизиции[721]. Красота испанских зданий не впечатляет Никулина[722], так как построены они на костях мавров, евреев, простого народа и напоминают об истории, являющейся историей человеческих страданий:
Двести тысяч человек когда-то жили, ненавидели и любили в этих стенах, теперь в Толедо едва ли двадцать пять тысяч жителей, но город стоит на костях и прахе миллионов. Оливковые рощи «сигаралес», кольцом охватывающие скалу, выросли на костях арабов, испанцев и португальцев, оспаривавших друг у друга власть над Толедо. И город-призрак, город-надгробие встает на скале…[723]
Миф о романтической Испании опровергается: гитары, кастаньеты и цыганские танцы — не более чем дешевая мишура, плохо выполненные подделки, продаваемые туристам:
Пляски престарелых гитан, треск кастаньет, дробь каблучков в память Карменситы оплачиваются по соглашению, и если современному романтику захочется сфотографировать современную гитану, она примет позу, сознательно копируя плохих художников, и возьмет за это три реала, бессознательно издеваясь над умирающим романтизмом[724].
Гитары и кастаньеты, серенады и цыганские танцы, бой быков и униформа испанских военных и чиновников, то есть те атрибуты, которые закрепились в романтическом образе Испании (Никулин тоже характеризует их как «романтические»), оцениваются им как стереотипные и неверные; взятые вместе, они создают искусственную стилизацию под Испанию. При этом Никулин использует метафоры из области театра, оперы и оперетты: «но сахарной, театральной Испании Чайковского, Каульбаха и Немировича-Данченко не существует»[725].
Наряду с этим составленным из внешних атрибутов стереотипом «романтической» Испании, который он распознает и отвергает, Никулин называет некоторые «типичные» особенности испанского образа жизни и национального характера, «действительно» характерные, по его мнению, для страны и населяющих ее людей. К ним в особенности относятся непунктуальность, неорганизованность, легкомыслие, а также склонность к театральности[726]. Эти качества составляют новый стереотип испанца и оцениваются Никулиным исключительно негативно. По его мнению, они хотя и дают поверхностную характеристику испанской реальности, но не отражают «подлинную» Испанию и дух ее народа, а представляют собой просто пережитки старого[727], от которых следует избавиться. Соответственно критикуется и якобы характерная для испанцев склонность культивировать любые проявления собственного национального характера, в том числе и такие, как «типично испанская» безответственность, непредсказуемость, своеволие:
«Но вы же в Испании». Это звучало в дальнейшем как лейтмотив. По дороге между Кордовой и Гранадой взрывается и сгорает автобус, шестнадцать заживо сгоревших людей, рекордное число для автомобильной катастрофы — «вы же в Испании»; любой мелкий чиновник может вам причинить серьезнейшие неприятности — «вы же в Испании»[728].
«Ненастоящей» Испании противопоставляется страна «подлинная», которая примечательным образом называется «Испанией Пушкина, Лермонтова и Гейне»[729] и которую можно обрести в среде простого народа:
Осколки старого быта […] не всегда безобразны […], иногда они очаровывают и привлекают вас, потому что они — плоть и кровь этого народа, простого и мужественного, […] который умеет петь и танцевать на улицах, веселиться в бодегах с пустым, туго перетянутым шарфом желудком[730].
Этот народ не отмечен у Никулина никакими национальными особенностями и поэтому обнаруживает большое сходство с советским народом:
…Ты […] видишь перед собой парня с характерными, энергическими чертами лица, рослого парня в берете, его коричневую сильную шею, расстегнутый и выпущенный поверх пиджака ворот рубашки. […] Он шагает непринужденно и смело, и рука его скована с рукой его боевого товарища[731]. Рядом с ним шагает стража […] Но пленный и скованный боец революции выглядит как победитель. Такова уж натура, неукротимый характер испанского народа. Неисчерпаемый революционный темперамент, мужество, неукротимый дух врожденного мятежника, пламя, которое невозможно погасить никакими потоками крови[732].
В этом и в подобных изображениях «новых» испанцев национальная компонента заменяется идеологической[733]. Таким образом, создается новый стереотип пролетария, чьи физические особенности (характерное, энергичное, загорелое лицо, мощная шея и т. п.) и духовные свойства (мужественность, революционный темперамент, бунтарский характер) закреплены в каноне социалистического реализма[734]. Идеологические признаки хотя и приписываются здесь испанскому характеру, однако национальность не имеет значения и вполне заменяема. Советская модель может (и должна) быть принята во всем мире:
Читайте чужой быт как книгу, удивляйтесь многоликости и разнообразию жизни на земле, и в этой многоликости и пестроте вы увидите ясно и отчетливо борьбу двух миров, борьбу двух классов и угадаете развязку и исход этой борьбы. Другой язык, другие нравы, песни и лица, но один решающий век, одна эра и наша гордость, наше право называть ее эрой Октября тысяча девятьсот семнадцатого года[735].
Таким образом, отношение «своего» и «чужого» строится у Никулина как оппозиция «национальное» vs. «идеологическое». К полюсу «чужого» относится национальное: «типичные» испанские атрибуты, характеризующие стереотип «романтического», испанская архитектура и «негативные» особенности испанского характера и быта. Это «чужое» отвергается полностью, и ему противопоставляется «свое» — универсальная советская идеологическая модель, которая, по убеждению путешественника, будет усвоена Испанией в будущем. А пока этого не произошло, Никулину больше не интересна эта страна, и он заключает в конце книги: «Прощай, Испания, и прощай — навсегда»[736].
III. От путевого очерка к политическому репортажу: «Испания» и «Испанская весна»
Испанская революция и провозглашение в 1931 году Второй республики вызвали в Советском Союзе сильный интерес к этой стране и побудили других советских писателей отправиться в путешествие. Уже в 1932 году было опубликовано собрание путевых заметок Эренбурга «Испания»[737], а в 1933-м — книга Кольцова «Испанская весна». Оба текста представляют собой смесь путевого очерка с политическим репортажем: хотя они и описывают действительно совершенное путешествие, однако их темой является не сама поездка, но политическая драма, разыгрывающаяся в Испании. Дистанция путешественника, которую еще сохраняет Никулин в своем идеологизированном описании страны, отсутствует в текстах Кольцова и Эренбурга: авторы открыто занимают определенную идеологическую и политическую позицию и стремятся прямо повлиять на происходящее своим творчеством. Новое, характерное для более поздней военной литературы об Испании понимание роли писателя как активного творца действительности Эренбург формулирует в предисловии к своей книге.
Снабженные новой функцией, формы классического путевого очерка, в том числе и его нейтрально-объективный дискурс (в целом уже не свойственный политическим репортажам об Испании), в случае необходимости могут быть использованы в идеологических целях. В следующем примере якобы выдержанная дистанция путешественника иронически подчеркивает царящую в Испании социальную несправедливость:
Путешественник, приехавший из другой части света и обследующий Европу так, как европейские миссионеры обследуют Африку, может отметить: «Испания заселена двумя породами людей. Одни — худые, изможденные, с явными признаками различных телесных и духовных лишений — называются „кампесинос“, что означает крестьяне. Они одеты по-разному: на севере они носят береты или платки, завязанные на голове, на юге — широкополые шляпы, но повсюду их одеяние отличается изъянами и может быть приравнено к рубищам. Другая порода людей, заселяющих Испанию, напротив, отличается здоровьем. Это краснощекие дородные люди, всегда веселые и жизнерадостные. Они пьют в кабачках вино, они курят сигары и ласкают хорошеньких служанок. Эти люди одеты повсюду одинаково, и зовут их „курас“, что означает „священники“»[738].
Эренбург вводит здесь некоего фиктивного рассказчика, который наблюдает с еще большей дистанции, чем автор/повествователь, причем без всякого личного интереса. Такая подмена позволяет автору/повествователю отступить на задний план; Эренбург прибегает к этому приему не для того, чтобы в самом деле отменить собственное, давно известное читателю видение происходящего, но чтобы подтвердить и объективировать это видение устами некоего фиктивного, непричастного лица. У Кольцова находим менее сложный вариант объективизации: он как будто предоставляет слово участникам происходящего. Те хотя и занимают какую-то позицию, то есть необъективны, однако их трудно заподозрить в том, что они разделяют идеологические взгляды русского очеркиста; сам же автор/повествователь никак не комментирует их высказывания. В следующем примере веер (популярный атрибут романтического образа Испании в русской литературной традиции), так же как у Никулина, воспринимается и изображается в качестве бессмысленного, принадлежащего прошлому символа. При этом чувство бессмысленности и вызванная им агрессивная реакция приписываются испанским мужчинам, в то время как очеркист остается «безучастным»: «мужчины […] с ненавистью смотрят на сотни дешевых бумажных вееров, которыми женщины совершенно автоматически и бессознательно круглые часы колышут воздух»[739]. Объективность автора в таких случаях должна гарантировать правдоподобность изображения, являющуюся одним из решающих элементов удачной пропаганды[740]. Таким образом, дистанцирование путешественника относительно изображаемого постоянно используется в политических репортажах Кольцова и Эренбурга как метод достижения пропагандистской цели.