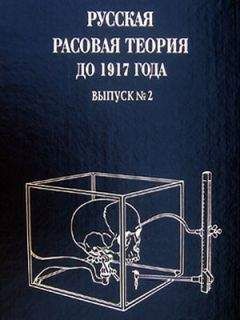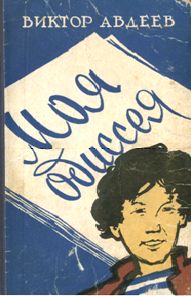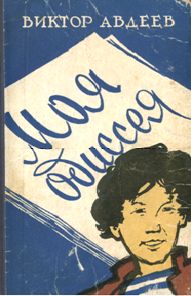При таких понятиях и воззрениях мысль о происхождении человека от животного, — существа бессловесного, лишенного не только разума, но даже (как принимали Стоики) чувств, воли и страстей, естественно была невозможной, должна была казаться совершенно неестественной и унизительной для человека. Взамен ее, нужно было придумать какую-нибудь другую гипотезу, и вот явилась теория, что человек не был создан вовсе, что он существовал вечно, подобно богам, или по крайней мере бесконечно долго, с самого начала мира. Эта теория, которую принимали Орест Лукан, Ксенократ, Дикеарх, Архит Тарентский, Пифагор, Теофраст и, по-видимому, также Платон, не разделялась, однако, другими философами, которые доказывали, что человек должен был иметь определенное начало, хотя и расходились в объяснении его происхождения. Одни, в том числе Эмпедокл, Парменид, Демокрит и Эпикур думали, что он произошел сам собой, из земли и воды, или воды и огня, под влиянием солнечной теплоты, каким-то процессом произвольного зарождения; другие, как Зенон и стоики, полагали, что он был непосредственным созданием богов. Эти две последние теории, как более вероподобные и притом стоящие в некотором соответствии с народными мифами (напр. мифом о Прометее или Девкалионе и Пирре), пользовались, по-видимому, наибольшим распространением как у Греков, так и у Римлян; есть некоторые основания предполагать, что первой из них, то есть теории произвольного зарождения, придерживался и величайший натуралист древности — Аристотель.
С появлением и распространением Христианства, высокое понятие о человеке, составленное Греками (а также разделяемое Римлянами и некоторыми другими древними цивилизованными народами, напр. Китайцами), должно было утвердиться еще более. По средневековым понятиям человек был средоточием мира, высшей и конечной целью творения. Для него создан был весь мир, только для него светило солнце, луна и звезды на небе; в нем и вокруг него были сосредоточены и действовали все духовные (как благодетельные, так и враждебные) силы мира. Он есть первое, избранное существо на земле, неизмеримо превосходящее все прочие земные создания. Силой своего ума и добродетели он может постигать и покорять весь мир; силой молитвы и благодати Божьей, или также магии и содействием дьявола, — он может заклинать духов, предсказывать будущее, нарушать естественный порядок творения, производить чудеса и воскрешать мертвых. Происхождение его совершенно отлично от происхождения прочих животных, так как он создан был по подобию Божию в последний день творения. Все животные, сравнительно с ним, суть бессловесные, неразумные, бездушные твари, созданные исключительно или преимущественно для него, для его пользы, забавы или также искушения и кары. Еще решительнее и полнее стали развиваться эти понятия в XV и XVI столетиях. По воззрениям Агриппы фон-Неттесгейма, Кардана, Джордано Бруно, Бёма, Парацельса и др. мыслителей того времени, человек есть конечная цель развития земной жизни, средоточие бытия, связь и символ всех вещей. Он соединяет в себе небесное и земное, вечное и преходящее, он представляет из себя целый мир — микрокозм, миниатюрное подобие великого мира — макрокозма; кто познает себя, тот познает всё. Душа человека есть часть мировой души, есть сила и разум всех вещей; тело его (по Бёму) есть эссенция материальных сил всех существ, в которой сконцентрирована вся природа. Жизненная сила человека (по Парацельсу) исходит от планет: сердце связано с солнцем, мозг с луной, почки с Юпитером и Венерой; на небе и в макрокозме содержится сущность всех членов человеческого тела. Судьбы человека представляются в созвездиях, не потому, (говорит Кардан), что человек управляется ими, но потому, что их взаимные положения соответствуют качествам человека, одно отражается в другом.
В соответствии с этим возвышением человека, животные низводились, между тем, всё ниже. В XVI столетии Гомец Перейра объявляет уже, что животные суть просто машины, действующие не по внутренним побуждениям, а по вложенному в них механизму. Еще решительнее развивают эту теорию в XVII столетии Декарт и его последователи, по мнению которых, животные не имеют ни ума, ни чувств, ни воли, и представляют только, как выражается один из Картезианцев, Кроциус — «гидравлико-пневматические машины». Но такие теории уже слишком противоречили обыденным понятиям и наблюдениям, чтобы не вызвать опровержений и даже насмешек.
Тем не менее, влияние этой теории не прошло бесследно; и, если в животных и стали признавать чувство, а до некоторой степени также волю и рассудок, то все-таки при этом подразумевалось, что их психическая природа коренным образом отлична от человеческой, так что если некоторые их поступки и поражают своей целесообразностью, то, во всяком случае, они только в ограниченной степени являются следствием размышления, большей же частью составляют просто проявления слепого, бессознательного инстинкта. Несмотря на нападки, которые возбудила против себя эта новая гипотеза со стороны многих мыслителей XVIII в., особенно Вольтера, она весьма прочно укоренилась в науке и, благодаря особенно авторитету знаменитого Кювье, сделалась господствующей с начала нынешнего столетия. Человек считался существом, хотя и принадлежащим по своей физической организации к животным, но тем не менее настолько отличным от них, что даже по одним анатомическим своим признакам он должен быть отделен в особое царство, наряду с царствами животных, растений и минералов.
Таков был, в кратких чертах, исторический ход развития господствующих воззрений на человека и на его отношения к животному миру, — со времен классической древности до второй половины XIX столетия. Мы говорим господствующих, потому что с большими или меньшими вариациями в подробностях они принимались большинством мыслящих и образованных людей своего времени, — хотя появлялись по временам личности, которые высказывали и иные мнения, далеко не отводящие человеку такого исключительного места в природе и понимающие несколько иначе его психические преимущества. Но в большинстве случаев, эти мнения были, так сказать, уже исключительными явлениями: они возбуждали мало сочувствия, проходили бесследно или принимались только известным кружком мыслителей. Были, правда, эпохи, когда эти мнения получали большее распространение, когда они развивались и разделялись большинством передовых мыслителей, когда они готовились, по-видимому, сделаться преобладающими; но такое преобладание продолжалось, однако же, относительно весьма недолго, наступал период реакции, и мыслящее человечество снова возвращалось к своим прежним теориям и воззрениям, только несколько исправив и видоизменив их, сообразно необходимым требованиям времени.
Тем не менее, мнения таких отдельных личностей, школ или эпох, представляют значительный интерес с точки зрения истории культуры, так как они показывают, что мысль о возможности происхождения человека от животных и об однородности их физической и психической природы, никогда не могла совершенно исчезнуть в мыслящем человечестве, — даже в эпохи, наименее, по-видимому, благоприятствовавшие таким воззрениям. Так, мы встречаем эту мысль еще в период классической древности, — у Анаксагора, который полагал, что человек, путем различных метаморфоз, мог произойти от рыбы или вообще какого-то водного животного. С другой стороны, если большинство древних философов и признавало, что психическая природа человека существенно отлична от природы животных, и что человек один только обладает разумом или духом, совершенно отличным по своей природе и происхождению от его материального субстрата, — то были и такие мыслители, которые допускали в этом случае только количественное, а не качественное различие и полагали, что психический агент есть только орган тела, неразрывно связанный с существованием последнего. По воззрениям Анаксагора, Демокрита и других философов, животные, по крайней мере, высшие, обладают также умом, и что если он не проявляется у них в таких же разумных действиях как у человека, то это зависит от порочного сложения их тела, изобилия в нем влажности, а главное, отсутствия речи. У одного из ново-платоников, Порфирия, жившего в III веке по Р. Х., мы встречаем мнение, что животные обладают не только чувствами и памятью, но и разумом, отличающимся от человеческого не по существу, а только по степени (non essentia sed gradu). Наконец, у Секста Эмпирика, (II в. по Р. Х.) мы встречаем даже положение, что не существует никакого признака, на основании которого можно было бы провести резкое различие между человеком и другими животными.
Подобные же мнения мы встречаем у некоторых Христианских писателей первых веков по Р. Х. Так, Арнобий (III в. по Р. Х.), рассуждая о сходстве природы животных с природой человека, задает вопрос: в чем же состоит отличие человека и какие такие имеет он преимущества, которые бы могли отвратить нас от мысли причислить его к числу животных? И затем проводит полную параллель между отправлениями и способностями, (как они тогда понимались), животных и человека. Другой писатель конца III — начала IV века, Лактанций, выражает мнение, что главное и даже единственное отличие человека заключается в религиозности, в способности понимать или воспринимать религию; все же прочие особенности человеческой природы замечаются, хотя и не в той же степени развития, и у животных. Такое мнение, очевидно, поддерживалось убеждением, высказанным еще Цицероном и Плутархом, что не существует ни одного народа, как бы ни был он дик и необразован, который бы не имел понятия о богах и о необходимости религии. Заметим, впрочем, что один древний философ, Ксенократ Карфагенский, полагал, что некоторое понятие о религии имеют и высшие животные; нечто подобное же допускали, по-видимому, и Иезуиты, как то можно судить по книге, изданной в Лилле в 1672 г.