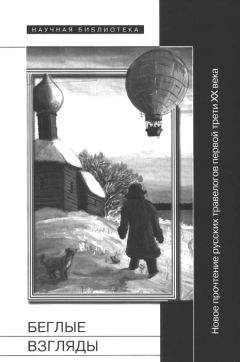Но и рудимент наполнен уже иным настроением. Если раньше поэту не надо было ничего, «кроме тебя, Революция» (стихотворение «Нордерней», 1923), то теперь он хочет сохранить собор Парижской Богоматери за его красоту. Скрытым намеком звучит напоминание, что Париж — исторический город, город революции (отсюда — архаическое «ядро»).
Красота дворцов и парков Версаля (на первом этапе советский путешественник не поехал бы в Версаль) теперь тоже заслуживает внимания. Но в стихотворении «Версаль» точка зрения советского поэта еще более усложнена. В иронический, отчасти извиняющийся за восхищение «красотищей»[835] голос поэта вторгается другой голос — простого советского человека, миллионными глазами которого символически взирает поэт:
Дворцы
на тыщи спален и зал —
и в каждой
и стол
и кровать.
Таких
вторых
и построить нельзя —
хоть целую жизнь
воровать!
(М 6, 216)
В первых двух строках — хозяйственное размышление полпреда о заселении пустующей (укомплектованной мебелью) жилплощади. Две следующие строчки — не «дань поэтической натуре», как ехидно посчитал критик эмигрантских «Последних новостей»[836], а голос простого советского человека, выражающий свое восхищение со свойственной ему непосредственностью (идеологически окрашенной: ведь все это наворовано королями у простонародья). Маяковский находит советскому путешественнику новую роль (при сохранении оставшегося от прежней роли культуртрегерства) — служить заместителем массового советского туриста, которому в силу объективных причин нельзя посетить столицы Запада. Обобщенно-личный иностранный субъект, с которым ранее поэт вступал в диалог, перебрался — на правах автономии — внутрь авторского «я» и сменил гражданство: стал советским читателем. Ирония становится прослойкой, отделяющей индивидуальное сознание поэта от общественного сознания. Ирония сопровождает и приобщение лефовца-футуриста к необычной для него функции транслятора культуры прошлого:
Красивость —
аж дух выматывает!
Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
(М 6, 217)
Не соответствующее логике стихотворения финальное предложение снести Версальский дворец и заменить его рабочим дворцом из стекла и стали — это голос простого советского человека, реакция общественного сознания. Концовка кажется позаимствованной из прежнего творчества Маяковского или советских журналов предшествующих лет. Например, в журнале «Ленинград» за 1924 год находим заметку «Зодчество современной Франции. Дворец индустрии в Лионе». Заканчивается заметка лозунгом: «Революция уничтожит Версаль [Версаль не относится к теме заметки и появляется только в последнем предложении, тем важнее его упоминание. — Е.П.] и „Дворец Индустрии“ превратит в „Красный Дворец Труда“»[837].
Трещина от штыка в столике Марии-Антуанетты — очередное напоминание о революционных традициях Парижа. Но та же трещина ведет травелог к новым значениям. С одной стороны, это прежнее разрушение эстетики, аналогичное уничтожению Версальского дворца во имя революции. С другой же, напротив, — это эстетика разрушения, аналог авангардистских инкрустаций, лампочек в глазах химер Нотр-Дама, приспособление «старья» к нуждам революции, превращение старого музея в новый, социалистический. Как советский писатель функционально заменяет массового советского человека, так туристы в коридорах дворца функционально заменяют санкюлотов. Восстание вещей из «Разговорчиков с Эйфелевой башней» превращается в восстание театральное, мыслимое, воображаемое. Это «хеппенинг», требующий читательской инициативы. Советские туристы символически пришли в Версаль, как в ленинградский Эрмитаж, и представляют себя революционным народом — каковым они, по сути, и являются. Поэтика осмотра Версаля становится бесконечным метонимическим замещением: поэт выступает за советских граждан, советские граждане — за французских революционеров и так далее. Все эти голоса вобрал в себя голос поэта. Такое усложнение точки зрения — следствие новой роли лирического героя: даже будучи частным лицом, он представляет страну, всех частных лиц СССР.
Кровавый призыв к революции теперь прячется за пейзажной занавесью:
Всем,
еще имеющим
купоны
и монеты,
всем царям —
еще имеющимся —
в назидание
с гильотины неба,
головой Антуанетты,
солнце
покатилось
умирать на зданиях.
(М 6, 218)
В следующем стихотворении в качестве антитезы казненной революцией (казнимой каждый вечер) Антуанетте появляется убитый буржуазией, но вечно живой — в демонстрации — Жорес:
Подняв
знамен мачтовый лес,
спаяв
людей
в один
плывущий флот,
громовый и живой,
по-прежнему
Жорес
Проходит в Пантеон
по улице Суфло.
(М 6, 220)
Красное знамя, поднятое в декабре 1924 года над бывшим царским посольством на рю Гренель (Маяковский написал об этом отдельное стихотворение — «Флаг», 1924), как в калейдоскопе, рассыпалось на лес знамен на рю Суфло. И вновь поэтика метонимических замещений: Жорес замещен демонстрацией, а демонстранты олицетворяют «пушкарей» — коммунаров 1871 года. Призыв к восстанию, которым обязательно кончилось бы стихотворение годом раньше, теперь лишь напоминание о том, что советские рабочие (еще один смысловой переход-замещение) — вечные союзники французских рабочих. Поэтика замещений превращается и в поэтику недоговорок.
Традиционный мотив буржуазной пошлости почти целиком сводится к разговорам русских эмигрантов. Это новая установка травелога: дискредитация перебравшейся в Париж эмиграции становится одной из важных задач советских путешественников. К абсурдным слухам о Маяковском, звучащим в монпарнасских кафе, добавлена эмигрантская «скульня» непрогрессивного Тургенева, предваряющая разговор с прогрессивными Верленом и Сезанном. Старая тема «парижской провинции» из очерков 1922 года преображается:
Париж,
тебе ль,
столице столетий,
к лицу
эмигрантская нудь?
Смахни
за ушми
эмигрантские сплетни.
Провинция! —
не продохнуть.
(М 6, 226)
«Провинцией» стали парижские эмигранты; они олицетворение «старья» — функция, которую еще недавно (в стихотворениях и очерках 1923 года) выполнял Лувр. Это новая локализация парижской провинциальности. Центр Европы по-прежнему — Москва; Париж, город революции и коммуны, теперь — «столица столетий», историческая столица Европы (как когда-то в России «первопрестольная» Москва при действующей столице Петербурге). «Невозможная краса» вечного города оправдана исторически и устремлена в социалистическое будущее. Но в то же время это новое, украшенное анафорической рифмой определение до тавтологии напоминает определение старое — «столица столиц». За два года до этого в очерке Маяковского «Парижские провинции» (1923) механизм европейской сцены опустил Париж до уровня обычных европейских городов, подняв на востоке Москву — новую «столицу столиц», столицу Федерации, Союза. Следующий акт борьбы за мировую революцию потребовал перемены декораций, и механизм заработал снова. На другом конце Европы вновь поднимается Париж, уравновешивая расшатавшуюся было европейскую ось. Два символических центра Европы находятся в постоянном диалоге — как город будущего и город прошлого (движущийся в будущее).
Впрочем, новая коммуникация, предложенная Маяковским, вовсе не диалогична. Она становится все большим углублением в себя. Уходя от прямых призывов к восстанию, как это было в «Разговорчиках с Эйфелевой башней», текст путешествия отказывается и от прямых обращений к западному адресату. Их место занимают осторожные, дипломатические метонимические уподобления: Париж с красным флагом, поднятым на рю Гренель, — это Париж под красным флагом (в стихотворении «Жорес»). Теперь не Эйфелева башня отправляется в СССР, а Москва приходит в Париж. Не напрямую, как крейсер «Аврора» раньше входил в территориальные воды Германии в стихотворении «Нордерней», а метонимически — красным флагом, рабочей солидарностью, присутствием в Париже советского поэта Маяковского, олицетворяющего миллионы советских рабочих.