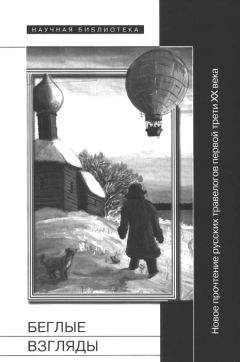Но в то же время Маяковский, предлагая советскому читателю «оправдание» Парижа, получает и оправдание для туристического взгляда на город — этот идеологический поворот станет началом нового этапа советских путешествий. Поэт своим примером доказывает, что туризм вовсе не означает отказа от пропаганды. Пропагандой может быть само присутствие советского человека на Западе.
II. «Съезд советских писателей» в Париже. Другой взгляд или взгляд другого?
Возможно, именно по этой причине в 1927 году, к десятилетию советской власти, Парижу были явлены литературные силы СССР. Парижские «Последние новости» с легкой иронией писали:
«Съезд советских писателей.
В последние дни в Париже наблюдается наплыв советских писателей, образовавших „Союз русских художников“ в Париже. Союз устраивает выступления уже приехавших Вл. Лидина, Мих. Слонимского, О. Савича, Эльзы Триоле, Ольги Форш и Ильи Эренбурга. В июле предположено отдельное выступление находящегося сейчас в Париже Анатолия Мариенгофа»[838].
5 мая газета извещала о приезде Лидии Сейфуллиной, выступавшей «в советском рабочем союзе с чтением своих произведений из быта сибирской деревни». Далее сообщалось о прибытии Маяковского, который тоже собирается выступать, «но не в кругу „своих“, а открыто и публично»[839].
Перед читателем проходит целая череда имен советских литераторов. К упомянутым в «Последних новостях» можно добавить имена И. Э. Бабеля, Вс. В. Иванова, В. М. Инбер, Л. В. Никулина (Ольконицкого), тоже посетивших Париж в 1927 году. Одиночество, неизменно звучавшее ранее в парижских стихах Маяковского, больше не должно было сопровождать советского поэта.
Теперь советский путешественник живет в Европе подолгу, не просто глотая впечатления, но погружаясь по мере возможности в быт. Намного обстоятельнее становятся и описания путешествий. Они по большей части задумываются как цикл очерков и последовательно, из номера в номер, печатаются в одной из советских газет (журналов). Затем цикл появляется в виде отдельной книги. Наиболее значительными результатами поездок 1927 года стали книги В. Инбер «Америка в Париже» (1928), Л. Никулина «Вокруг Парижа (Воображаемые прогулки)» (1929), О. Форш «Под куполом» (1929). Ряд травелогов, стремясь к общей схеме, расширяет при этом жанровые рамки. Книги путевых очерков В. Г. Лидина «Пути и версты» (1927) и И. Г. Эренбурга «Виза времени» (1931) включают в себя тексты разных лет, описывающие разные путешествия, с преобладанием европейских очерков конца 1920-х годов. M. Л. Слонимский создал по результатам поездки повесть «Западники» (1928), построенную во многом как путевой очерк.
Характерно, что в списке путешественников преобладают не партийные и пролетарские авторы, а писатели-попутчики. Владение иностранными языками, способность к коммуникации (близость по воспитанию к тем, с кем предстоит общаться в буржуазных столицах), претензия на внеидеологический взгляд оказываются важнее пролетарского происхождения. Советская власть демонстрирует европейскому наблюдателю свой либерализм. Знаменательно, что даже нарком просвещения Луначарский (с 1927 года выполняющий и дипломатическую работу при Лиге Наций), выступая в Париже перед журналистами, играет в либерала, представителя богемы при советском правительстве. Эту игру Луначарского подчеркивает ирония «Последних новостей»:
Потом начинается доклад. Это собственно не доклад, а беседа о том, как он, Луначарский, там в СССР боролся за освобождение искусства. Теперь искусство в СССР свободно. Сначала оно было в плену у агитации. Но он, Луначарский, доказал своим товарищам, что искусство одно, а агитация другое, и они поверили. […] В доказательство свободы искусства в СССР Луначарский рассказывает о чрезвычайном добродушии цензурного комитета, который, мол, разрешает все, кроме порнографии. «Мы и так допустили в литературу всякое сквернословие и заборные упражнения и не разрешаем только то, что и забор не выдержит». А политические — пожалуйста. Вот, например, Станиславский. Бракует все пьесы с революционным и социальным настроениями; нехудожественно, мол, даже самого наркома отверг. Поставил реакционнейшую пьесу «Братья Турбины» Булгакова [еще одного попутчика; речь идет о пьесе «Дни Турбиных». — Е.П.]. Тут уже цензурный комитет не выдержал и запретил. Но он, Луначарский, запротестовал и защитил. «Помилуйте, актеры работали, творили»… Долго еще рассказывал нарком о своей самоотверженной борьбе за свободу творчества, о любви к интеллигенции и многом другом[840].
Тезис свободы искусства, его независимости от власти — важнейший в презентации Луначарского. Продолжая игру в свободу, советские литераторы в Париже создают общественную организацию (что звучит одинаково прогрессивно и для либерального западного, и для советского уха) и начинают издавать свою (в противовес эмигрантским) русскоязычную газету. С одной стороны, эта политическая игра указывает на переориентировку советской «внешней пропаганды» (по аналогии с «внешней политикой»): здраво оценив обстановку, она обращается теперь не к пролетариату, а к либеральной и левой интеллигенции Запада. С другой стороны, частная позиция путешественника в соединении с изображаемой свободой творчества и приоритетами национальной (а не классовой) культуры открывает возможность межкультурной коммуникации. Отступившая идеологическая рутина обнажает самое жизнь, писатель наблюдает другие народы, иные нравы и картины, и эти зарисовки, сделанные советским (русским) сознанием, становятся основой травелогов.
Именно на этом этапе советское путешествие обретает, казалось бы, «взгляд другого». Например, путешественник М. Слонимского из повести «Западники» с самого начала поездки готов воспринимать чуждый мир как другой, аналогичный, параллельный: «Он не противился этой своей неожиданной готовности вобрать в себя все чужое, что двигалось и сверкало перед ним»[841]. Европа для него по-прежнему разделена на зоны, но теперь это не линии политики, а линии стиля жизни, общей культуры. Движение и сверкание — характеристики Варшавы. Вслед за ней путешественник видит из окна вагона Германию:
Это была другая планета. Планета эта изрезана была дорогами изумительной прямизны и чистоты и застроена крытыми красной черепицей каменными домиками. /…/ Это было непохоже на правду. Это утомляло. Это даже вызывало варварский протест. Хотелось внести хоть какой-нибудь беспорядок в этот четко распланированный, аккуратно расчерченный мир (Слонимский, 17–18).
И наконец, за окном начинается Франция:
Когда поезд тронулся, Андрею показалось, что Европа кончилась, и вновь началась Россия, и даже не Россия, а что-то еще восточнее, еще беспорядочнее и диче. Но это просто начинался другой порядок, чем в Германии, и другой беспорядок, чем в России. Это была Франция (Слонимский, 19).
Слово «другой» доминирует в описании Европы, это следствие нового взгляда. Характерно, что Франция кажется Андрею значительно более близкой к России, чем Германия. Это восприятие человека, почти не ограниченного идеологическими доктринами. Почти — поскольку герой повести привозит в Париж свое ленинградское представление о Париже и измеряет им реальные впечатления. Если путешествие Лоренса Стерна начинается фразой «Во Франции это устроено лучше» (под «этим» подразумевается что-то конкретное, но неопределенное — и одновременно все сразу), то путешествие советского гражданина исходит из обратного: «Во Франции все устроено хуже». Хуже, чем могло бы быть. Хуже, чем устроено в Ленинграде. «Взгляд другого», свободный взгляд «либерального путешествия», изначально помещен в жесткие рамки советского сознания, которое является одновременно и адресантом и адресатом сообщения.
III. Путеводитель: парный герой и свободная деталь
С лишением путешествия официального статуса меняется и характер текста, создаваемого по ходу поездки. Переходя из сферы политики в сферу частной жизни, путешественник ищет новую литературную форму. По форме травелог начинает все более напоминать путеводитель. Ярко выраженное (скажем, в цикле Маяковского) «Я» путешественника стушевывается, растворяется в созерцательном описании: глава «Париж с птичьего „дуазо“» в книге О. Форш, «Жизнь с точки зрения Эйфелевой башни» из травелога В. Инбер, первые главы книги Л. Никулина с присущими путеводителю топонимическими («Слобода Бианкур», «Ваграм») или топонимико-метафорическими («Улица лицемеров», «Улица веселья») заглавиями. Если же повествование ведется от первого лица, то это предельно обобщенное первое лицо, интонациями напоминающее гида. Рядом с ним часто возникает другой герой — советский турист, вносящий идеологические правки в политически нейтральный (или кажущийся таким) текст. Например, в «Воображаемых прогулках» Никулина гид-повествователь водит по Парижу только что приехавшего из СССР некоего товарища Галкина: