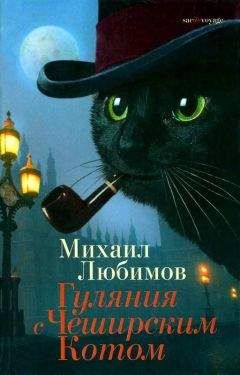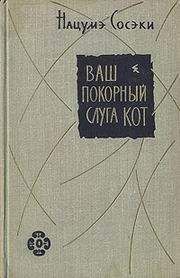У Лоуренса холодный ум сочетался с жестокостью: однажды был тяжело ранен арабский друг полковника, он стонал и кричал, привлекая внимание к участникам тайного рейда. Лоуренс вынул пистолет и прострелил ему голову. Впрочем, такое случалось не впервые: незадолго до этого во время движения отряда один мавр убил бедуина, что грозило распадом всего отряда на враждующие группки. Лоуренс, признанный арбитр, собственноручно и без всякого суда застрелил мавра и навел порядок в отряде.
По окончании войны начинается вторая жизнь полковника Лоуренса, еще более загадочная и необъяснимая: поработав немного в Министерстве колоний во главе с молодым и энергичным Черчиллем, он уходит в отставку, исчезает из лондонских салонов, избегает прессы. И вдруг прославленный национальный герой под чужой фамилией поступает на службу в Королевские военно-воздушные силы в качестве рядового техника по обслуживанию самолетов. Одни объясняли этот странный поступок умопомрачением полковника, у которого произошел душевный надлом, другие видели в действиях Лоуренса хитроумные происки британской разведки, нашедшей оригинальную «крышу» для своего фаворита. Эти подозрения стали роковыми для Лоуренса: вездесущая пресса пронюхала о его новой работе под чужим именем. Все это прозвучало как колоссальная сенсация, перепуганное Министерство авиации выперло Лоуренса в танковые войска. Там он снова сменил фамилию и тихо служил на базе в глухомани близ города Дорсета, где решил обосноваться на старости лет в собственном коттедже. Там Лоуренс пристрастился к мотоциклу, он любил бешеную скорость, и часто его мотоцикл гремел по глухим улочкам городка.
В танковых войсках любитель скоростей скучал и, благодаря связям, вновь устроился в авиацию под чужой фамилией. В 1926 году начальство имело глупость направить его на авиабазу в Индию, рядом с границей Афганистана, — и снова проклятая пресса! Снова обнаружили разведчика в такой стратегически чувствительной точке. Тут и советские газеты подбросили дров в костер, написав, что агент британского империализма активно занимается шпионажем и плетет заговоры против Советской России, а афганское правительство даже издало приказ расстрелять Лоуренса на месте в случае его появления на территории Афганистана.
Вся эта шумиха напугала и англичан, и индусов. Лоуренса срочно возвратили в Лондон: там все бурлило, его дело обсуждали в парламенте, ему посвящали демонстрации протеста друзья Советской России, а британские коммунисты, в лучших традициях нового строящегося мира, сожгли его чучело на митинге. Полковника направили на базы, сначала в Плимуте, а затем в Саутгемптоне, ему запретили выезжать за границу и даже общаться с «большими людьми», прежде всего с Черчиллем. В 1934 году контракт Лоуренса истек, он ушел из авиации и поселился в Дорсете. Через год после отставки Лоуренс попал в аварию в районе Дорсета, где по пальцам можно было пересчитать и людей, и мотоциклы. Война пощадила его, но глупый случай оказался роковым: прославленный разведчик погиб в возрасте 47 лет.
Многие современники воздавали хвалу его уму, мужеству и воле, другие считали его выскочкой, привыкшим к славе. А кое-кто считал Лоуренса психопатом и шизофреником, изрядно подорвавшим свое здоровье в Аравийской пустыне, и типичным интеллигентом-писателем, который, подобно Шелли или Бодлеру, всю жизнь страдал от собственных неврозов…
— Ты много натрепал о Лоуренсе, но забыл о главном! — пробурчал Кот.
— Неужели какой-то Чеширский Кот знает об истории шпионажа больше, чем профессиональный шпион? — возмутился я.
— Можешь раздуваться от тщеславия сколько угодно, но, когда король Георг Пятый вручал Лоуренсу Орден Бани и посвящал его в рыцари, полковник сказал: «Я стыжусь той роли, за которую получил эти награды. От имени Англии я давал известные обещания, и они не выполнены, — быть может, мне еще придется сражаться с Вашим Величеством!» Король побелел от злости, так полковник и не стал «сэром».
И Кот тоже побелел в знак солидарности с королем, его Улыбка стала такой белоснежной, что у меня начали слезиться глаза.
Я имею счастье быть приглашенным на ланч лично лордом Бифштексом, прямо в «мать парламентов», где отменный ресторан, куда не допускают широкую публику, правда, не лишают шанса осмотреть весь Вестминстер и послушать прения с галерки. Пропускная система строга, как при входе в Рай: проверка на металл, смотрящие из углов телевизионные камеры-трубки, очень галантные служители.
— Вы к кому? Подождите, пожалуйста, лорд Бифштекс на дебатах, я сейчас ему доложу о вас…
Румянощекий лорд[94] появляется через несколько минут, он трогательно заботлив и всем своим добродушным видом разрушает образ кровососа, предки которого пустили по миру пастухов и прочих крестьян, — помните, «овцы съели людей»? Мы осматриваем залы, увешанные огромными картинами в тяжелых рамах, и из этого имперского музея переходим в небольшую палату лордов. После мордобоев в нашей думе и швыряния стаканами все выглядит невыносимо скучно, а бывало, я не вылезал отсюда, наслаждаясь свободой слова.
Кабинет лорда. «Кровавая Мэри», в которой маловато томатного сока (Джеймс Бонд предпочитал водку с перцем, уносившим с собой вниз вредные масла), переход в ресторан для внутреннего пользования, дежурные улыбки, обсуждение неинтересных новостей, сладостное погружение в любимое блюдо — панированный дуврский соль, огромный, как мечта.
— Мне занозы, пожалуйста! — заказывает Чеширский Кот. Официант даже глазом не моргнул, эксцентрики и коты в Англии в почете, и клиент может заказать хоть гвозди.
Мы успеваем дружески обсудить (кроме погоды) расстановку мировых сил, прогресс в ныне свободной России, генеалогию моего Чеширского Кота, здоровье семьи лорда и множество других важнейших вопросов[95].
После сытной трапезы хочется вернуться в Хемпстед и развалиться на тахте, но гостеприимный Крис предусмотрительно купил билеты в театр. Конечно, это интеллектуальная перегрузка, но не хлебом же единым. С ужасом узнаю, что мы идем на мюзикл «Отверженные», оказывается, это мировой хит, не сходящий со сцены десятилетиями, билеты раскуплены на год вперед. На «Отверженных» я вырос и воспитывался, всю жизнь проникался духом Гавроша и добротой Жана Вальжана и даже отмечал день Парижской коммуны. Никогда не поверю, что англичане спят и видят во сне французскую революцию, что им коммунары?!
Уэст-эндовский театр «Палас» набит битком, публика захвачена действом, словно сама участвует в борьбе с зажиревшей буржуазией, никто не шелохнется, не шуршит программкой, все бешено аплодируют после каждой мизансцены. Пафос нарастает, льется кровь на баррикадах, коммунары в живописных лохмотьях поют трагические арии, мне самому вдруг хочется запеть «Интернационал», проткнуть штыком мерзкого полицая Жавера и расцеловать в бледные щечки бедную девочку Козетту.
— Надоело! — вдруг заорал Чеширский Кот. — Ради каких свинячьих псов (pigs’ dogs) вы привели меня на «Отверженных», если рядом идет хит знаменитого Эндрю Ллойд Уэббера «Кошки»? И сделан он не по сценарию какого-нибудь халтурщика, а по «Популяр ной науке о кошках, написанной Старым Опоссумом», шедевру Томаса Стернза Элиота…[96] «Пускай с усами и хвостами, коты на нас похожи с вами, на всех людей любого круга, так непохожих друг на друга…»
Под влиянием революционного спектакля на следующее утро решаем совершить визит к святому месту, которое никогда не пропускали высокие советские делегации, — на могилу Карла Маркса.
Плач по Марксу и ода русским бабам
Но вот, вооружившись зонтами, мы бредем по дорожкам лесного парка, лондонской гордости Хемпстед-Хит, мимо проносятся собаки, мы кружим по переулкам и вскоре оказываемся на кладбище Хайгейт. Давненько я тут не бывал, давно не возлагал. Карл Маркс неплохо кормит коммунистов до сих пор, вход платный, и для буднего дня посетителей хватает (в месяц 75 000 человек), обычной стайкой шествуют китайцы во френчах, ясное дело, партийцы. У могилы двое жгучих брюнетов а-ля Троцкий, в твидовых пиджаках и красных галстуках. Вокруг гигантской каменной головы с бородой, рядом с которой чувствуешь себя жалким муравьем, рассеяны могилки помельче, в основном коммунистических лидеров в странах бывшей Британской империи.
Визит к вождю пролетариата мгновенно вызывает у меня кислые воспоминания о часах и днях, потраченных на партучебу, семинары, конспектирование «Капитала» и, самое страшное, отчетов генсеков — боже, сколько ушло на это сил! Сколько умных книг можно было бы прочитать, сколько прекрасных девушек очаровать, сколько, наконец, выпить, черт побери!