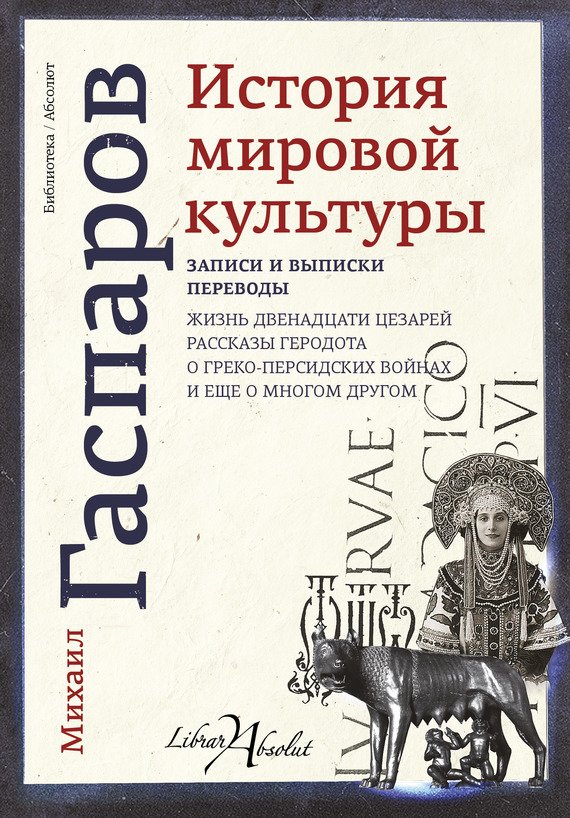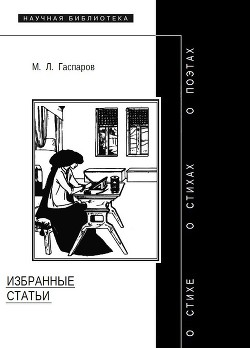с мыслью «что подумали бы обо мне отцы», совесть – с мыслью «что подумали бы обо мне дети».) Более того, когда европейские
les intellectuels вошли недавно в русский язык как
интеллектуалы, то слово это сразу приобрело отчетливо отрицательный оттенок: «рафинированный интеллектуал», «высоколобые интеллектуалы». Почему? Потому что в этом значении есть только ум и нет совести, западный интеллектуал – это специалист умственного труда, и только, а русский интеллигент традиционного образца притязает на нечто большее.
Примечание историческое
Было два определения интеллигенции: европейское intelligentsia – «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел», и советское – «прослойка общества, обслуживающая господствующий класс». Первое, западное, перекликается как раз с русским ощущением, что интеллигенция прежде всего оппозиционна: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться. Второе, наоборот, перекликается с европейским ощущением, что интеллигенция (интеллектуалы) – это прежде всего носительница духовных ценностей: так как власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (проповедь, школа, печать), то она с готовностью пользуется пригодными для этого духовными ценностями из арсенала интеллигенции. «Ценность» – не абсолютная величина, это всегда ценность «для кого-то», в том числе и для власти. Разумеется, не всякая ценность, а с выбором.
В зависимости от того, насколько духовный арсенал интеллигенции отвечает этому выбору, интеллигенция (даже русская) оказывается неоднородна, многослойна, нуждается в уточнении словоупотребления. Можем ли мы назвать интеллигентом Льва Толстого? Чехова? Бердяева? гимназического учителя? инженера? сочинителя бульварных романов? С точки зрения «интеллигенция – носительница духовных ценностей» – безусловно: даже автор «Битвы русских с кабардинцами» делает свое культурное дело, приохочивая полуграмотных к чтению. А с точки зрения «интеллигенция – носитель оппозиционности»? Сразу ясно, что далеко не все работники умственного труда были носителями оппозиционности: вычисляя, кто из них имеет право на звание интеллигенции, нам, видимо, пришлось бы сортировать их, вполне по-советски, на «консервативных», обслуживающих власть, и «прогрессивных», подрывающих ее в меру сил. Интересно, где окажется Чехов?
«Свет и свобода прежде всего», – формулировал Некрасов народное благо; «свет и свобода» были программой первых народников. Видимо, эту формулу придется расчленить: свет обществу могут нести одни, свободу другие, а скрещение и сращение этих задач – специфика русской социально-культурной ситуации, порожденной ускоренным развитием русского общества в последние триста лет.
При этом заметим: «свет» – он всегда привносится со стороны. Специфики России в этом нет. «Свет» вносился к нам болезненно, с кровью: и при Владимире, когда «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем», и при Петре, и при Ленине. «Внедрять просвещение с умеренностью, по возможности избегая кровопролития», – эта мрачная щедринская шутка действительно специфична именно для России. Но – пусть менее кроваво – культура привносилась со стороны, и привносилась именно сверху, не только в России, но и везде. Петровская Россия чувствовала себя культурной колонией Германии, а Германия – культурной колонией Франции, а двумя веками раньше Франция чувствовала себя колонией ренессансной Италии, а ренессансная Италия – античного Рима, а Рим – завоеванной им Греции. Как потом это нововоспринятое просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом кнута или пряника: Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковно-приходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы.
В России передача заемной культуры от верхов к низам в средние века осуществлялась духовным сословием, в XVIII веке дворянским сословием, но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь между делом, между службой Богу или государю. Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой – с приходом в культуру разночинцев (не обязательно поповичей), т. е. выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни «долга интеллигенции перед народом» именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог кончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение лавочниковых сыновей могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространятся на весь народ – по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в «Новом времени». А если чеховские двухсотлетние сроки оказались нереальны, то это потому, что России приходилось торопиться, нагоняя Запад, – приходилось двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.
Русская интеллигенция была трансплантацией: западным интеллектуальством, пересаженным на русскую казарменную почву. Специфику русской интеллигенции породила специфика русской государственной власти. В отсталой России власть была нерасчлененной и аморфной, она требовала не специалистов-интеллектуалов, а универсалов: при Петре – таких людей, как Татищев или Нартов, при большевиках – таких комиссаров, которых легко перебрасывали из ЧК в НКПС, в промежутках – николаевских и александровских генералов, которых назначали командовать финансами, и никто не удивлялся. Зеркалом такой русской власти и оказалась русская оппозиция на все руки, роль которой пришлось взять на себя интеллигенции. Повесть Б. Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня» начинается приблизительно так (цитирую по памяти): «Когда государыня Елизавета Петровна отменила на Руси смертную казнь и тем положила начало русской интеллигенции…». То есть когда оппозиция государственной власти перестала физически уничтожаться и стала, худо ли, хорошо ли, скапливаться и искать себе в обществе бассейн поудобнее для такого скопления. Таким бассейном и оказался тот просвещенный и полупросвещенный слой общества, из которого потом сложилась интеллигенция как специфически русское явление. Оно могло бы и не стать таким специфическим, если бы в русской социальной мелиорации была надежная система дренажа, оберегающая бассейн от переполнения, а его окрестности – от революционного потопа. Но об этом ни Елизавета Петровна, ни ее преемники по разным причинам не позаботились.
Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, дошла до России только в 1905 году. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским (практическим), а интеллигентским (критическим), взглядом из‐за ограды. Критический взгляд из‐за ограды – ситуация развращающая: критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками, – естественное порождение русских исторических условий. Парламентская машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где власть была монопольна, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того