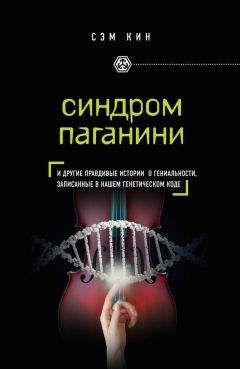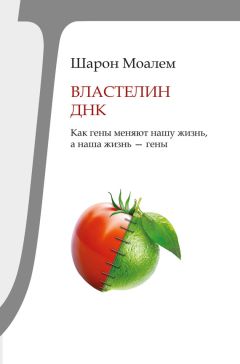Хоть это и несправедливо, но ассоциация с Кремлем окончательно подорвала репутацию как самого Каммерера, но и ламаркизма, несмотря на то, что сторонники ученого и продолжали выступать в его защиту. Наиболее заметный случай состоялся в 1971 году, когда писатель Артур Кёстлер (что интересно, неоднократно высказывавшийся против коммунистов) написал документальную книгу «Дело жабы-повитухи», в которой оправдывал Каммерера. Среди прочего, Кёстлер раскопал где-то статью 1924 года об открытии дикой жабы-повитухи с брачными мозолями. Это далеко не обязательно оправдывает Каммерера, но намекает, что у этих жаб могут быть скрытые гены, отвечающие за появление брачных мозолей. Такие гены могли быть обнаружены во время опытов австрийца.
Также возможно, что дело в эпигенетике. Ученые отмечают, что, среди прочих эффектов, опыты Каммерера изменили толщину желатиновой оболочки, покрывающей яйца жабы-повитухи. Поскольку это желе богато метильными группами, изменение толщины слоя могло «включать» и «выключать» гены, включая и атавистичные, вроде гена брачных мозолей. Столь же любопытно то, что когда бы Каммерер ни скрещивал жаб, он отмечал, что у их потомства отцовские предпочтения по поводу спаривания на суше или в воде «бесспорно» доминировали над материнскими. Если отец любил спариваться «насухо», те же привычки были у его сыновей и внуков: если предпочитал совокупляться в воде, – то же самое демонстрировали и потомки. Подобные эффекты родительского происхождения играют важную роль в «мягком наследовании»: жабьи тенденции в этом плане перекликаются с историей жителей Оверкаликса.
Строго говоря, даже если Каммерер наткнулся исключительно на эпигенетические эффекты, он этого не понял – и, возможно, на самом деле (если вы, конечно, не верите в нацистский заговор) совершил фальсификацию, введя своим жабам чернила. Но в некотором смысле это даже добавляет Каммереру харизмы. Шум, пропаганда и скандалы вокруг его имени объясняют, почему многие специалисты даже во время хаотического упадка дарвинизма отказывались признавать теории мягкого наследования, подобные эпигенетической. Каммерер, возможно, был и жуликом, и невольным пионером в науке, и тем, кто готов лгать для большей правдоподобности своей идеи, – и тем, кто в конечном счете не солгал. В любом случае он столкнулся с теми же проблемами, с которыми генетики сражаются до сих пор – проблемами взаимодействия генов и окружающей среды, поиском ответа на вопрос, что из этого в итоге доминирует. Это действительно очень животрепещущий вопрос: как бы Каммерер отреагировал, если бы знал, к примеру, об Оверкаликсе. Он жил и работал как раз тогда, когда в шведской деревушке обнаружились некоторые трансгенерационные эффекты. Мошенничал Каммерер или нет, но если бы он увидел хотя бы какие-то следы своего любимого ламаркизма, то, возможно, не отчаялся бы до такой степени, чтобы свести счеты с жизнью.
* * *
В последние десять лет эпигенетика развивалась настолько быстро, что попытки систематизировать ее достижения выглядят практически неосуществимыми. Эпигенетические механизмы могут делать и совсем легкомысленные вещи (например, выращивать у мышей хвосты в горошек), и серьезные – даже толкать людей к самоубийству (как и в случае с самим Каммерером). Наркотики – кокаин, героин – могут сматывать и разматывать спираль ДНК, которая регулирует нейротрансмиттеры и нейростимулянты (что объясняет, почему наркотики доставляют удовольствие), но если постоянно их принимать, ДНК будет все время размотанной, что и приводит к зависимости. Восстановление ацетиловых групп в клетках мозга на самом деле привело к восстановлению забытой информации у мышей, и каждый день появляется еще больше выводов, показывающих, что опухолевые клетки могут управлять метильными группами, чтобы подавлять генетические регуляторы, которые обычно препятствуют их росту. Некоторые надеются, что когда-нибудь нам удастся решить даже проблему эпигенетики неандертальцев.
Соответственно, если вы хотите разозлить биолога, начните разглагольствовать о том, как эпигенетика перепишет теорию эволюции или поможет нам освободиться от своих генов, сковывающих нас, как кандалы. Эпигенетика может внести изменения в наши представления о функциях генов, но не может совсем отвергнуть их. И поскольку эпигенетические эффекты действительно присутствуют у людей, многие биологи подозревают, что такие явления «легко приходят, легко уходят»: метильные, ацетиловые группы и прочие механизмы могут просто испариться через несколько поколений, как изменяются триггеры окружающей среды. Мы просто еще не знаем, может ли эпигенетика насовсем изменить вид. Пожалуй, основополагающая последовательность А-Ц-Г-Т всегда остается незыблемой и напоминает гранитную стену, которая остается стоять, в то время как граффити в виде метильных и ацетильных групп постепенно выцветают.
Но на самом деле подобный пессимизм упускает из виду главное и все же дает надежду эпигенетике. Низкое генетическое разнообразие и ограниченное число человеческих генов видится невозможным для объяснения всей нашей сложности и многосторонности. Возможны миллионы и миллионы различных комбинаций эпигенов. И даже если мягкое наследование улетучивается, к примеру, через пять-шесть поколений, каждый из нас живет на свете только в течение двух-трех поколений – и на этой шкале времени эпигенетика делает огромную разницу. Гораздо легче переписать эпигенетическое «программное обеспечение», чем заменить свои гены полностью, и даже если мягкое наследование не приведет к настоящей генетической эволюции, оно позволит нам адаптироваться к стремительно меняющемуся миру. В самом деле, новые знания, получаемые благодаря эпигенетике – сведения о раке, клонировании, генной инженерии – помогут нашему миру меняться еще быстрее.
Глава 16. Жизнь, какой мы (не)знаем ее
Что, черт возьми, сейчас происходит?
В конце 1950-х Пол Доти, биохимик, специализирующийся на ДНК (член клуба галстуков РНК), прогуливался по Нью-Йорку, думая о своем, когда увидел уличного торговца сувенирами и в недоумении остановился. На лотке у торговца были значки, и среди банальных надписей Доти увидел значок с буквами ДНК. Мало кто в мире знал о ДНК больше, чем Доти, но он предполагал, что публика знает о его работе совсем мало, а интересуется этим еще меньше. Предполагая, что аббревиатура значит что-то другое, Доти спросил продавца, что такое ДНК. Тот осмотрел великого ученого с головы до ног. «Чуваак, врубайся! – рявкнул он с нью-йоркским акцентом. – Это же ген!»
Перенесемся на четыре десятилетия вперед, в лето 1999 года. Знания о ДНК росли как на дрожжах, и законодательные органы штата Пенсильвания, взволнованные надвигающейся «революцией ДНК», спросили у эксперта по биоэтике, члена компании Celera Артура Каплана совета по поводу того, как депутаты могут контролировать генетику. Каплан согласился, но дело с самого начала пошло неудачно. Чтобы оценить свою аудиторию, он начал лекцию с вопросов: «Где ваши гены? Где конкретно в организме они находятся?» Лучшие умы Пенсильвании этого не знали. Без всякого стыда и иронии четверть присутствовавших ассоциировала свои гены с половыми железами. Еще 25 % самонадеянно предположили, что гены размещены в мозгу. Остальные где-то видели изображения спиралей, но были не вполне в курсе, что это значит. В конце 1950-х термин ДНК был частью духа времени, и спираль вполне органично смотрелась на значке уличного торговца. С тех пор общественное мнение никак не продвинулось. Из этого невежества Каплан сделал вывод: «Просить политиков устанавливать правила и ограничения в генетике очень опасно». Конечно, отсутствие толковых знаний о генах и ДНК не позволяет иметь твердое мнение о подобных технологиях.
Это не должно удивлять. Генетика очаровывает людей практически с тех пор, как Мендель вырастил свой первый гороховый куст. Но это очарование подтачивает червячок недоумения и отвращения, и будущее генетики зависит от того, сможем ли мы преодолеть эту амбивалентность, сможем ли видеть не только черное и белое. Пожалуй, наиболее гипнотизирует/пугает нас генная инженерия (в том числе клонирование) и попытки объяснить весь сложный человеческий внутренний мир терминами «чистых» генов – эти идеи часто остаются непонятыми.
Строго говоря, люди начали генетически изменять растения и животных еще десять тысяч лет назад, с появлением сельского хозяйства. Но настоящая генная инженерия взяла старт в 1960-х годах. Ученые в большинстве своем начинали с того, что обмакивали яйца дрозофил в слизь из ДНК, надеясь, что пористые яйца что-то поглотят. Удивительно, но эти топорные эксперименты срабатывали: крылья и глаза мух изменяли форму и цвет, и эти перемены передавались по наследству. Десятью годами позже, в 1974 году, один молекулярный биолог разработал инструментарий для склеивания ДНК различных видов воедино, чтобы формировать гибриды. Хотя эта Пандора в своих опытах ограничилась микробами, некоторые биологи, увидевшие эти химеры, забеспокоились – кто знает, что будет дальше? Они решили, что их коллеги торопят события, и призвали к мораторию на исследования по рекомбинации ДНК. Примечательно, что биологическое сообщество (включая специалиста-«Пандору») согласилось с этим решением и добровольно перестало проводить опыты, чтобы обсудить безопасность и правила поведения, – практически уникальное событие в истории науки. К 1975 году биологи решили, что узнали уже достаточно для того, чтобы продолжать эксперименты, но их благоразумие успокоило общественность.